Дафна дю Морье
Правь, Британия!
Глэдс с любовью и надеждой,
Бин
1
Шум пролетающих над головой самолетов разбудил Эмму, но сон еще не покинул ее, принимая шум в свое течение. Сон был из тех, что повторяются снова и снова: первый раз он приснился ей лет в пять, но возвращался и в двадцать, поэтому Эмма понимала, что в нем скрыт некий психологический смысл, но она не пыталась в нем разобраться. Во сне она и Мад, взявшись за руки, грациозно кланялись сначала публике, а потом друг другу. Звучали оглушительные аплодисменты, несколько раз поднимался и опускался занавес, но рукоплескания все не смолкали. Ребенком в этом сне она смотрела на Мад снизу вверх, ища у нее защиты, и Эмма обретала уверенность от ее ответной улыбки, прикосновения ее руки. Мад будто говорила: «Все в порядке, тебя никто не обидит, я с. тобой — сейчас и навсегда». В школьные и отроческие годы фигура Мад — как символ защиты и опоры — уже не казалась такой грандиозной, а скорее сама Эмма выросла и они сравнялись в достоинстве, словно изображения на разных сторонах одной монеты, и теперь аплодисменты предназначались им обеим… Последний взрыв оваций — и вот занавес опускается в последний раз, и мир театра уступает место реальности: доносится затихающий гул самолетов, летящих со стороны моря, — а она лежит в своей постели, оконная рама дребезжит о подоконник, занавески развеваются, и в комнату проникает запах утра, чистый и свежий.
Эмма взглянула на часы у изголовья и включила местную программу радио. Но вместо сигналов точного времени или голоса диктора был слышен только непрерывный гул. Значит, видимо, где-то неисправность; Эмма попробовала настроиться на канал национального радиовещания, но и там было то же самое. По-прежнему слышался гул, да еще вдобавок ужасный треск и шипение. К черту, — она отодвинула приемник и откинулась на подушку, закинув руки за голову и мысленно переиначивая гамлетовское «быть или не быть?» — чтобы критически оценить свою собственную двойственную жизнь. Уехать иль не ехать, вот в чем вопрос. Достойно ль жить жизнью Мад, деля с ней кров, иль нужно порвать с ее господством и идти по новому пути, освободившись…
Вот только по какому пути, вот в чем загвоздка. Этого нет! Для девушек нет работы, независимо от того, с образованием они или нет. На любую службу претендентов хоть отбавляй. Мужчины, женщины, юноши, девушки давятся за место, хватаются за мало-мальски приличную работу, ну а с тех пор как правительство пошло на попятную и покинуло Европейское сообщество — разногласия между странами Десятки послужили официальной причиной, а национальный референдум дал тогдашнему правительству подавляющее большинство, — дела, казалось, хуже некуда. По крайней мере, так говорил папа, а он-то должен знать, ведь он управляет коммерческим банком.
— Отправляйся путешествовать, — говорил он ей. — Я плачу за все.
— Я не хочу жить за чужой счет, — отвечала она. — Мне уже восемнадцать.
И вот неизбежная и тщетная попытка добиться успеха на сцене. Конечно, это все Мад. Сон сном, а пробиться не удалось. А если не сразу на вершину, тогда уж нет. Только не после аплодисментов, звучавших все ее детство. Рекламные ролики или местное радио? Нет, спасибо, леди и джентльмены, а также зрители всего мира. Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться.
Эмма еще раз включила радио, с тем же результатом: постоянный гул. Она поднялась с постели и пошла напустить в ванну воды. Выглянув в окошко, Эмма заметила, что на окнах комнаты младших мальчиков занавески еще задернуты. И слава Богу, если повезет, — они, может, еще спят. Хлопнула боковая дверь, — теперь они точно проснутся, если их уже не разбудили самолеты. Это Терри выкатил свой велосипед из флигеля — где, кстати, запрещалось его держать, — и умчался по дороге. Обычно Терри с трудом вставал рано, не то что Джо, который к семи всегда был на ногах и колол дрова или копался в саду; из любопытства Эмма открыла окно и крикнула ему вслед:
— Куда ты?
Он, конечно, только отмахнулся, улыбнувшись, и, не ответив, поехал дальше. Она уже собиралась закрыть окно, как вдруг заметила: по крыше над комнатой младших мальчиков скатываются отвалившиеся плитки шифера. Одна, другая, третья. Ею овладела ярость. Она поняла, что Энди выбрался на крышу из окна своей спальни на другой стороне дома и устроился на старой трубе, своем излюбленном наблюдательном пункте. По-видимому, он что-то там повредил? Этого я не потерплю. Недавний сон, столь далекий от жизни, оставил у Эммы чувство безысходности, заглушить которое можно только действиями, лучше всего бессмысленными. Стакан с водой с грохотом полетел в раковину и разбился на мелкие кусочки. Это принесло ей удовлетворение, и она пробормотала: «Так ей и надо». Кому так и надо? Ей или Мад? Вода в ванне была чуть теплая — нагреватель, похоже, опять испортился. Вот к чему ведет жизнь в сумасшедшем доме, по праву носящем имя владелицы, которая, покинув сцену несколько лет назад, после блестящей карьеры, не нашла ничего лучшего, как усыновить шестерых неблагополучных мальчишек, считая, что в этом она обретет смысл жизни теперь, когда ее сценическая карьера закончилась.
Не буду я ей больше помогать. Пусть найдет кого-нибудь другого. Не хочу губить себе жизнь. Я слишком молода.
Эмма приняла ванну и оделась — та же старая блузка, те же старые джинсы, не для кого здесь наряжаться, — потом спустилась вниз и вошла на кухню, недовольно сморщившись от запаха яичницы с беконом. Дотти настаивала, чтобы дети начинали день с плотного завтрака, иначе они не будут расти сильными; и поскольку готовить его ей приходилось самой, она и взяла все в свои руки.
Сорок лет Дотти служила у Мад костюмершей, и теперь, лишив ее мира театра, составлявшего смысл ее жизни, на нее возложили обязанности кухарки, уборщицы, экономки, сиделки и любые другие, что ей приходилось выполнять по первому требованию ее хозяйки, которую она боготворила. Уже давно Эмма заметила, что их почти невозможно представить друг без друга. Если память можно сравнить с фотопластинкой — а Эмме часто казалось, что это именно так, — то первым ее зрительным воспоминанием была уборная Мад в Королевском театре: Мад сидит перед огромным зеркалом, потом медленно оборачивается и поднимается, протягивая руки к Эмме, которой три или четыре года, и произносит: «Милая…», улыбаясь своей волшебной, лучезарной улыбкой, а в углу за ширмой суетится Дотти, вешая на плечики какой-то необыкновенный костюм. Мадам нужно это… Мадам требуется то… Мадам в прекрасном настроении. Мадам не в духе. Так случилось, что «Мадам» — имя, введенное Дотти, с течением лет распространившееся по театральной иерархии, от директора, драматурга и ведущего актера до мальчиков, вызывающих артистов на сцену, и монтировщиков декораций, — в один прекрасный момент — уже никто не помнит когда — превратилось на устах ребенка в Мад. Хотя, надо заметить, что сейчас, как и тогда, его разрешалось употреблять только Эмме. Если бы на это осмелился кто-то другой — разразилась бы буря.
А кстати, буря готова была разразиться в любую минуту — так решила Эмма, когда очередная волна самолетов пронеслась над головой. Им числа нет, наверное какие-нибудь учения, и из-за них, судя по всему, не работает радио. Дотти, со своими округлыми формами, пыталась протиснуться к окну над раковиной и посудомоечной машиной и, запрокинув голову, смотрела наверх.
— Что происходит, — сказала она Эмме. — Эти штуки не дают ни минуты покоя. Мне и будильник утром не понадобился. Еще шести не было, а уж стоял сплошной рев. Что ж они не думают о людях?
— Кто это «они»? — поинтересовалась Эмма.
Она начала накрывать мальчишкам на стол. Тарелки, ножи, вилки.
— Ну, — ответила Дстти, берясь за сковородку, — те, кто управляют, почем я знаю. Нет у них таких прав. Ну вот, еще тост сожгла. Сегодня все не ладится. Почтового фургона нету, пришлось послать Терри на велосипеде искать его. Если Мадам не получит газету вместе с соком, устроит она нам. Уже полчаса назад могла позвонить. Эмма, детка, поторопи мальчишек, и так не справляюсь. И скажи Энди, чтоб чистил зубы пастой, а не мылом.
На миг гудение в небе стихло. Временное затишье. «Мне бы заниматься чем-то по-настоящему нужным, скажем, ухаживать за стариками, пораженными проказой, кормить толпы страждущих, пострадавших от цунами, — думала Эмма. — К черту, ерунда какая-то. Это все телевизионная хроника. Мад права: от нее теряешь здравый смысл».
В комнате младших мертвая тишина. Не могут же они спать до сих пор? Она открыла дверь. Занавески были плотно задернуты, но свет горел. В дальнем углу на перевернутом ночном горшке, как на троне, восседал Бен. На нем ничего не было, кроме перчаток и старой шляпы Мад (которую когда-то отправили на распродажу старья, но никто на нее не позарился). Красавец, словно из черного дерева, он выглядел младше своих трех лет. Мад взяла его к себе не только из-за цвета кожи, а еще и потому, что, как ей сказали, у мальчика что-то не в порядке с языком, и он вряд ли сможет научиться говорить. Увидев Эмму, он в восторге закатил глаза, поднял вверх два пальца — жест, которому его научил Терри, — снова уставился на верх двухъярусной кровати, где спал Колин.
Шестилетний Колин был белокож, негатив черного Бена: голубоглазый, золотоволосый — любой режиссер из миллиона кандидатов на роль младенца Иисуса отобрал бы его. Колина нашли в канаве после фестиваля поп-музыки; родителей отыскать не удалось. Мад, которая временами страдала снобизмом, клялась, что мальчик королевских кровей; но дьявол тоже явно приложил к нему руку, — за ангельским ликом скрывалось змеиное коварство. «Если кто и научит Бена говорить, так это Колин», — определила Мад и, к ужасу Дотти, отвела им двухъярусную кровать. С этого момента Колин стал для Бена кумиром, хотя пока что дара речи он так и не обрел.



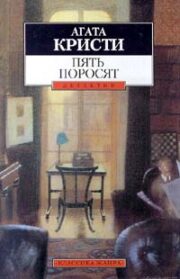


Очень полезное чтиво.
Вдохновляющая литература.
Предлагает практичные решения.
Предлагает новые подходы.
Я прочитал книгу Дафны дю Морье «Правь, Британия!» и был поражен тем, как хорошо автор понимает историю и политику Великобритании. Она предоставляет глубокий анализ истории и политики Британии и предлагает практические решения для решения сложных проблем. Книга предлагает интересные идеи и предложения для улучшения политической ситуации в Британии. Я рекомендую всем интересующимся политикой и историей Великобритании прочитать эту книгу.
Я думаю, что книга Дафны дю Морье «Правь, Британия!» — это великолепное исследование политических и культурных изменений в Великобритании в последние десятилетия. Автор предлагает нам интересные и продуманные аргументы и представляет нам новые и интересные перспективы на будущее. Эта книга действительно помогла мне понять политическую ситуацию в Великобритании и принять более осознанное решение при голосовании.
Я прочитала книгу Дафны дю Морье «Правь, Британия!» и была поражена ее глубиной и интеллектуальной проницательностью. Она предлагает новый подход к анализу истории Британии и предлагает интересные идеи для решения проблем современной Британии. Книга предлагает много полезной информации и предлагает практические решения для проблем, с которыми сталкивается Британия. Я очень рекомендую эту книгу всем, кто интересуется историей и политикой Британии.
Вызывает к действию.
Освещает важные темы.
Открывает глаза на проблемы Британии.
Отличный анализ современной политики.
Очень познавательно.