Я слышал, как все по очереди поднялись по большой лестнице, находящейся в холле перед музыкальной гостиной. Одна за другой открылись и закрылись двери комнат. Потом все стихло. Было без десяти одиннадцать.
Я не стал гасить свет, я просто сел на первый попавшийся стул. Я чувствовал себя совершенно разбитым. Сердце колотилось так, что стук, казалось, разносился по всему дому.
Десять минут показались мне вечностью. Мне нужно добыть доказательство, и сейчас я его получу. Я вдруг понял, что могу поплатиться за это жизнью.
Как только эта мысль пришла мне в голову, я успокоился. Наверно, так бывает на войне, подумал я. И вообще когда настает решительная минута. Ожидая ее, ты боишься, но она приходит, и страх улетучивается. И эта минута настала. Свет погас. Ощущение в буквальном смысле было такое, словно тебе на голову надели черный мешок. Нигде не пробивалось ни лучика света. Дом погрузился в полную темноту. К тому же мы были в деревне — в ночной ноябрьской тьме за окном не брезжило ни единого огонька. Я встал и пошел к лестнице. Я знал, где она находится, и все же по пути наткнулся на стул.
Но вот я нащупал ногой первую ступеньку в кромешной тьме стал медленно подниматься. Здесь, наверху, на маленькой площадке, была дверь в небольшую прихожую, которая вела в мою комнату. Все знали, что я буду подниматься по этой лестнице.
Но я-то не знал, кто придет в мою комнату искать два куска холста или будет поджидать меня в темноте.
Я считал ступени. Я помнил, что их восемнадцать. И вот я дошел до площадки. Нашарил дверь, ухватился за ручку и потянул ее к себе. Мне надо было отступить на два шага, потому что дверь открывалась наружу в сторону лестницы.
Я был готов, я предчувствовал, что произойдет.
В ту самую секунду, когда дверь открылась в полной темноте, меня с силой отшвырнули назад к крутой бетонной лестнице. Но в потемках я двигался с вытянутыми руками и схватил того, кто меня толкнул.
Правая рука у меня оставалась свободной, и я успел ухватиться за перила. Удержаться с помощью одной руки мне не удалось, но мне удалось смягчить падение. И мы покатились по лестнице вдвоем. На меня пахнуло слабым ароматом духов. Мы катились по ступеням вниз, и я знал, что держу в руках убийцу.
12
Что спасло наши жизни, не знаю.
Но я был готов к тому, что произойдет, и это, очевидно, оказалось решающим. Если бы я стоял на площадке не подготовленный к встрече с убийцей и ни о чем не подозревая, я бы мешком свалился вниз. А теперь моя правая рука, на мгновение уцепившаяся за перила, самортизировала падение.
Возможно, она тоже в какой-то миг схватилась за перила, потому что была секунда, когда мне показалось, что мы повисли в воздухе. Она, вероятно, до смерти испугалась — она готовила могилу мне, а теперь ей предстояло последовать туда вместе со мной. В те секунды, что мы катились по ступенькам, я не замечал ничего, кроме слабого запаха духов и кромешной тьмы. Я не почувствовал, что ударился, вообще не чувствовал физической боли.
Видимо, слишком сильно был потрясен. Мелькнула даже мысль, что ее приятно держать в объятиях.
И тут она закричала. Непрерывный долгий вопль — меня прямо дрожь пробрала. Наверно, я все-таки ударился головой, потому что на короткий миг мне показалось, что я теряю сознание. И тут безудержное падение прекратилось: мы оказались у подножия лестницы в кромешной тьме.
Не знаю, сколько мы так пролежали, — головокружение мешало мне следить за временем, я только сознавал, что крепко сжимаю ее обеими руками. И вдруг комната наполнилась людьми. Это было похоже на кошмар.
Плясали лучи карманных фонариков, вспыхнувшие со всех сторон — из двери в холл, из двери на верхней площадке, со ступенек. Лучи света обшаривали комнату, натыкались на нас, лежавших на полу, скользили по роялю, скрещивались, освещая лица тех, кто держал фонарики.
Я по-прежнему не ощущал времени — может, прошло всего несколько секунд. Но лучи перестали вдруг метаться. Ровный золотистый свет разгорался все сильнее. Это зажгли два больших семисвечника.
Единственный раз в жизни моей матери пришлось смирить свою нелюбовь к свечам и боязнь пожара.
И тут, выпустив ее из рук, я встал.
Ее нельзя было узнать. Она, как кошка, вскочила с пола — я было подумал, что сейчас она кинется на меня. Но вместо этого она ухватилась за спинку стула и приподняла его, словно собираясь швырнуть.
Но нет — она со стуком поставила его на пол, вцепившись в него с такой силой, что узкие пальцы побелели. Потом она уронила голову на спинку стула и на свои руки. В большой комнате, освещенной четырнадцатью свечами, воцарилась мертвая тишина.
Я понимал, что все остальные должны быть здесь, но, очевидно, они были потрясены настолько, что лишились дара речи. Первой пришла в себя моя мать.
— Мартин, у тебя на виске кровь.
Я машинально вынул из кармана платок и приложил к виску. Но я не сводил глаз с той, другой.
Голова ее была по-прежнему опущена на стул, волосы торчали во все стороны, словно заряженные электричеством. Я подумал о голове Медузы. И тут, рывком выпрямившись, она взглянула на меня.
Такой откровенной ненависти, какая сверкала в ее расширенных глазах, я еще никогда не видел.
— Кровь! — воскликнула она. — Кровь на виске!.. — И она расхохоталась. И хохот этот был ужасен. — Ты должен был разбиться насмерть, Мартин.
Я надеялась, что я тебя убью. О Мартин, если бы ты знал, как я тебя ненавижу. — Голос ее сорвался на хрип.
— У тебя нет причин меня ненавидеть, — сказал я. Мои слова прозвучали на редкость бесцветно и банально.
— Ты хотел погубить Пребена… Ты… ты… жалкий… жалкий учителишка!
По-видимому, более крепкого ругательства она подыскать не сумела.
— Нет, — сказал я. — Губить Пребена я не хотел никогда. Я хотел найти того, кто погубил Свена и Эрика. А это сделала ты. Ты убила Свена и Эрика.
— Свена и Эрика! — она буквально выплюнула их имена. — Да какое значение имели Свен и Эрик? Два обывателя-толстосума с их распроклятыми деньгами. Я убивала бы их снова и снова. Они стояли на дороге у Пребена…
— Неправда, — возразил я.
— …У них были деньги, которые могли спасти Пребена, но они не желали с ними расстаться. Деньги… Деньги… У них они были, а Пребен должен был жить под вечным гнетом, вечно бояться… Пребен, который в тысячу раз лучше Свена и Эрика, лучше вас всех вместе взятых, лучше…
Она размахивала руками. С губ брызгала пена.
— Вы все ничтожества, плоские, как ползающие по земле черви… Без полета, без фантазии, а Пребен…
— Карен, — вмешался Пребен.
Голос его был ровным и тусклым.
— Карен, замолчи. Твои слова сведут меня с ума. Я не стою ни гроша, я ничтожество.
Ее лицо вдруг сразу преобразилось, смягчилось. Но глаза по-прежнему были странно расширены.
— Нет, Пребен, ты для меня все, весь мир…
— Прошу тебя, Карен, замолчи… Замолчи… Целую осень я прожил в адских муках, подозревая о том, что ты наделала. Но я не верил… Не хотел верить, я все надеялся, все надеялся, что это сон. Спросить тебя я не решался. Но потом… Когда мне привезли эти картины, я понял, что ты натворила. Я разрезал их на кусочки, и мне казалось, я режу на части самого себя. Мне хотелось, чтобы это был я сам…
Казалось, мы, все остальные, просто не существуем. В целом мире были только они двое, две заблудшие, проклятые души.
— …Ради меня ничего не надо было делать — я ведь сказал тебе это еще тогда, в августе, когда ты решила купить картины. Я всего лишь заурядный обманщик. И пусть бы люди узнали, что я фальсификатор, мне все равно.
— Тебе все равно? Если бы люди узнали, что ты… что ты, Пребен, который стоишь больше…
— Хватит! — оборвал он вдруг грубо и жестко. — Говорю тебе, мне все равно. Я ничто, ничто, слышишь ты, ничто. И всегда был ничтожеством. Я бездарный художник-неудачник, я всегда останавливался на полпути.
Я изо всех сил старался это скрыть, всю свою жизнь старался скрыть, что никогда ничего не мог довести до конца. Я не смел признаться в этом, изображая из себя этакого непонятого гения, который и лучше, и значительней других, с большим, как ты выражаешься, полетом. Нет у меня никакого полета. Была просто жалкая попытка добиться признания во всем — во множестве областей, где я так ничего и не достиг. Я ничтожество, говорю тебе, ничтожество…
В глубине души я снял шляпу перед Пребеном Рингстадом.
— Ничтожество… И я это сознавал всегда. Вся моя жизнь была сплошной обман, и к чему он привел? Я даже не смею подумать об этом. Если бы только ты оставила меня в покое.
— Пребен, — сказала она. Это прозвучало как стон.
— Если бы ты оставила меня в покое! Твое обожание сводит меня с ума. Обожание, обожествление издали. Если бы ты была как другие женщины, если бы ты еще могла… или захотела… Не знаю. Но ты хотела спрятаться в башне из слоновой кости, а меня вывесить на стене этакой иконой, на которую должны молиться, только молиться.
Она терла себе глаза.
— Ты думаешь, я стал бы горевать, если бы все узнали, что я совершил когда-то? Да, может быть, я наконец смог бы разделаться с образом непризнанного гения.
Я не стал бы горевать, даже если бы мне пришлось просидеть года два в тюрьме. Наоборот. Может, я наконец смог бы стать человеком. И потом… — Он сухо, коротко усмехнулся. — Я смог бы написать картины, на которые потом нашлись бы покупатели. Подлинный Пребен Рингстад, тот, что сидел в тюрьме за подделку картин Моне и Дега. Бывают такие чокнутые коллекционеры.
— Пребен! — снова простонала она. Стоном больного животного. Это было страшно, ничего подобного я и представить себе не мог. — Я любила тебя, Пребен, любила всегда. Однажды много лет назад ты рассказал мне про эти две картины. Я была тогда еще совсем юной — я пережила самый настоящий шок. Почему я, по-твоему, вышла за Эрика? Почему, ответь мне. Да чтобы накопить денег и купить эти картины. Но мне не удалось. Поэтому…

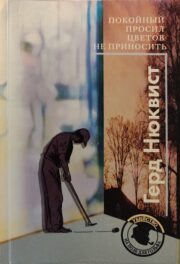
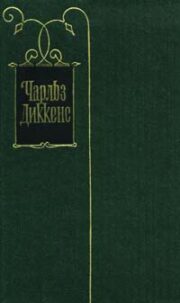
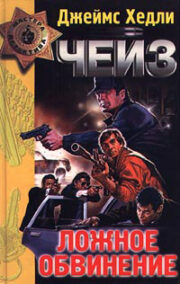


"Покойный просил цветов не приносить" отзывы
Отзывы читателей о книге "Покойный просил цветов не приносить", автор: Герд Нюквист. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Покойный просил цветов не приносить" друзьям в соцсетях.