– Держитесь, сэр! Держитесь! – кричал егерь.
Он боялся за меня, добрый малый, но я успокоил его, с улыбкой махнув рукой. Собаки шарахнулись от меня в стороны. Может быть, нескольким досталось копытами, но что поделаешь! Лес рубят – щепки летят. Я слышал позади восхищенные крики егеря. Наддал еще, и вот уж собаки позади. Передо мной только лисица.
Ах, какую радость и гордость я почувствовал! Подумать только, я обставил англичан в их национальном спорте. Три сотни охотников жаждали убить этого зверя, а он достанется мне. Я подумал о своих товарищах из кавалерийской бригады, о своей матушке, об императоре, о Франции. Я прославил их всех. С каждым мгновением я настигал лисицу. Пришла пора действовать, и я обнажил саблю. Я взмахнул ею, и молодцы англичане издали дружный крик.
Только тут я понял, какое это трудное дело – травля лисицы: рубишь по ней и рубишь, но никак не можешь попасть. Она ведь маленькая и ловко увертывается. При каждом ударе я слышал ободряющие крики, и они подстегивали меня. Наконец настал миг моего торжества. Лисица попыталась увернуться, и тут-то я накрыл ее таким же точно боковым ударом, каким я зарубил адъютанта русского императора. Я рассек ее надвое, голова покатилась в одну сторону, а хвост – в другую. Я оглянулся и взмахнул окровавленным клинком. Торжество переполняло меня – это было замечательно!
Ах, до чего же мне хотелось остановиться и принять поздравления моих благородных соперников! Их было человек пятьдесят, и все они махали руками и кричали. Право, не такие уж они флегматичные, эти англичане. Геройский поступок на войне или на охоте всегда разжигает их сердца. Что же до старика егеря, он был ближе всех ко мне, и я собственными глазами видел, как он был поражен тем, что произошло. Его словно хватил столбняк – рот разинут, поднятая рука с растопыренными пальцами застыла в воздухе. Я готов был повернуть назад и расцеловать его.
Но в ушах у меня уже звучал зов долга, и к тому же эти англичане, несмотря на братство, объединяющее всех охотников, без сомнения, взяли бы меня в плен. Теперь не было никакой надежды выполнить поручение маршала, хотя я сделал все, что в человеческих силах. Я видел расположение войск Массены, французы были недалеко, так как по счастливой случайности мы скакали именно в ту сторону. Я объехал мертвую лисицу, отдал салют саблей и поскакал прочь.
Но эти славные охотники не дали мне уйти так легко. Теперь я оказался на месте лисицы, и мы лихо помчались по равнине. Только когда я поскакал прямо к нашим позициям, они поняли, что я француз, и теперь все устремились за мной. Лишь на расстоянии выстрела от наших передовых постов они остановились кучками, но не поворачивали назад, а кричали и махали мне руками. Нет, я не верю, что это было выражением враждебных чувств. Скорей, мне кажется, души их исполнились восхищением, и они хотели только одного – обнять чужеземца, проявившего такую доблесть и искусство.
Глава IV
Как бригадир спас армию
Я уже рассказывал вам, друзья мои, как мы полгода, с октября тысяча восемьсот десятого по март одиннадцатого года, осаждали англичан в Торрес Ведрас. Как раз тогда мне довелось охотиться с ними на лису и показать им, что среди них нет ни одного кавалериста, способного обскакать гусара Конфланского полка. Когда я вернулся в расположение своих войск, на моем клинке еще не высохла лисья кровь, и передовые посты, которые всё видели, встретили меня радостными криками, да и английские охотники надрывали глотки у меня за спиной, – так что меня приветствовали обе армии. Я прослезился, когда увидел, сколько храбрецов мной восхищается. Эти англичане – благородные противники. В тот же вечер нарочный под белым флагом привез сверток, адресованный «гусарскому офицеру, убившему лису». Вскрыв его, я нашел там эту самую лису, разрубленную мной надвое. Кроме того, там была записка, короткая, но очень сердечная, вполне в английском духе, в ней говорилось, что, поскольку я убил лису, мне остается только съесть ее. Откуда им было знать, что мы, французы, не имеем обычая есть лисиц, но, значит, они считают, что добыча принадлежит победителю. Однако француз не может позволить, чтобы его перещеголяли в вежливости, и я вернул лисицу этим удальцам-охотникам на закуску к следующему djeuner de la chasse[15]. Вот как воюют благородные люди.
Я привез с собой довольно подробный план английских позиций и в тот же вечер выложил его перед генералом Массеной.
Я надеялся, что это побудит его начать наступление, но все наши маршалы в то время перегрызлись, они щелкали зубами и рычали, как свора голодных собак. Ней ненавидел Массену, Массена ненавидел Жюко, а Сульт – их обоих. Поэтому мы бездействовали. Припасы наши тем временем таяли, и наша прекрасная конница имела печальный вид из-за бескормицы. К весне мы начисто опустошили всю страну и сидели голодные, хотя и посылали фуражные команды к черту на рога. Даже самым отчаянным храбрецам было ясно, что настало время отступать. Мне самому пришлось признать это.
Но отступить было не так-то легко. И не только потому, что люди вымотались и ослабели от голода, но еще и потому, что враг, видя, как долго мы бездействуем, воспрянул духом. Веллингтона мы не очень-то боялись. Мы знали, что он смел и благоразумен, но не слишком предприимчив. Кроме того, в этой разоренной стране он не мог быстро нас преследовать. Но с флангов и в тылу сосредоточились большие силы португальского ополчения, состоявшего из вооруженных крестьян и других партизан. Всю зиму они держались от нас на почтительном расстоянии, но теперь, когда кони у нас отощали, они вились, как мухи, вокруг наших передовых постов, и если кто попадал к ним в лапы, то за его жизнь нельзя было дать ни единого су. Я мог бы назвать с десяток офицеров, которых лично знал, погибших в те дни, и счастливее всех был тот, кому пуля, пущенная из-за скалы, угодила прямо в голову или в сердце. Некоторых постигла до того страшная смерть, что об этом было запрещено сообщать родственникам. Этих ужасных случаев было столько и они производили такое впечатление на наших людей, что стало нелегко заставить их выйти за пределы лагеря. Особенный ужас наводил на них один негодяй, командир партизан Мануэло по прозвищу Шутник. Это был здоровенный толстяк, такой благодушный с виду, он засел со своей бандой головорезов в горах у нас на левом фланге. Можно было бы написать целую книгу о жестоких делах этого малого, но командовать он, надо прямо сказать, умел и так вышколил своих бандитов, что они не давали нам шагу ступить. Это ему удалось, потому что он ввел у себя железную дисциплину и за малейший проступок наказывал без всякой жалости, так что люди его наводили ужас на всех, однако это, как вы сейчас услышите, привело к самым неожиданным последствиям. Если бы он не высек собственного лейтенанта… но об этом речь впереди.
При отступлении нас ждало немало всяких трудностей, но было совершенно ясно, что другого выхода нет, и Массена принялся поспешно готовить обоз и лазарет к отправке из Торрес Новас, где был штаб, в Коимбру, первый укрепленный пост на его коммуникациях. Однако это невозможно было сделать незаметно, и партизаны сразу начали роиться все ближе и ближе к нашим флангам. Одно из наших подразделений, которым командовал Клозель, вместе с кавалерийской бригадой Монбрена находилось далеко к югу от Тахо, и было необходимо сообщить им, что мы готовимся к отступлению, так как иначе они остались бы без всякой поддержки, одни в самом сердце враждебной страны. Помнится, я все думал, как же Массена это сделает, ведь нарочные проехать туда не могли, а мелкие отряды, без сомнения, были бы сразу же уничтожены. Нужно было как-то передать им приказ об отступлении, иначе Франция потеряла бы четырнадцать тысяч человек. Но я и не думал тогда, что именно мне, полковнику Жерару, выпадет честь совершить поступок, который для всякого другого мог бы стать величайшим подвигом в жизни, да и среди тех подвигов, что прославили меня, окажется не на последнем месте.
В то время я состоял при штабе Массены, и, кроме меня, у него было еще два адъютанта, тоже храбрые и неглупые офицеры. Фамилия одного была Кортекс, другого – Дюплесси. Оба были старше меня по возрасту, но во всех прочих отношениях старшим мог считаться я. Кортекс был маленький, темноволосый, очень живой и подвижный. Прекрасный был солдат, но его погубила самонадеянность. Послушать его, так он первый герой во всей армии. Дюплесси был гасконец, мой земляк, славный малый, как все гасконцы. Мы дежурили по очереди, и в то утро, о котором у нас пойдет речь, дежурил Кортекс. Я видел его за завтраком, а потом он куда-то исчез, и коня его тоже не было в стойле. Весь день Массена был по обыкновению мрачен и долго осматривал в подзорную трубу позиции англичан и суда на Тахо. Он ни слова не сказал о том, с каким поручением послал нашего товарища, и не нам было задавать ему вопросы.
Около полуночи, когда я стоял у дверей штаба, он вышел и полчаса не двигался с места, сложив руки на груди, вглядываясь во тьму на востоке. Он был так неподвижен в своей настороженности, что его закутанную фигуру в треуголке можно было принять за изваяние. Я не понимал, чего он ждет; наконец он с досадой выругался, круто повернулся и, войдя в дом, с грохотом захлопнул за собой дверь.
На другое утро Массена о чем-то долго говорил со вторым адъютантом, Дюплесси, после чего тот тоже исчез вместе с конем. Ночью, когда я сидел в прихожей, маршал прошел мимо меня, и я видел через окно, как он стоял и смотрел на восток, точно так же, как накануне. Он простоял там не меньше получаса, застыв в темноте черной тенью. Потом он вошел, хлопнула дверь, и я услышал звяканье его шпор и ножен в коридоре. Конечно, это был всего-навсего вспыльчивый старик, но когда он приходил в ярость, я предпочел бы предстать перед самим императором, чем попасться ему на глаза. Я слышал, как он всю ночь шагал по комнате и ругался у меня над головой, но меня он не вызвал, а я слишком хорошо его знал, чтобы пойти без зова.

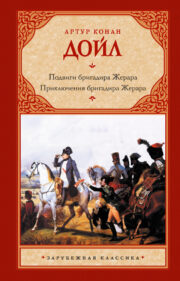
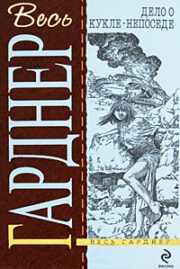
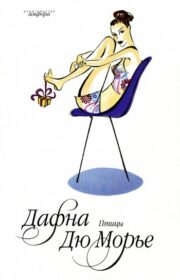


Эта книга Артура Конан Дойла «Подвиги бригадира Жерара. Приключения бригадира Жерара» представляет собой захватывающее путешествие в мир приключений и действий. Это история о доблестном бригадире Жераре, который противостоит врагам и преодолевает препятствия на своем пути. Он проявляет мужество и отвагу, принимая важные решения и делая правильные выборы. Эта книга помогает мне понять, что даже в самых трудных моментах жизни можно найти выход и преодолеть любые препятствия. Она вдохновляет меня на доброе дело и помогает мне видеть в жизни положительные стороны.