Тень на море
В скором времени кузина Эди сделалась у нас, в Уэст-Инче, королевой, а мы все, начиная с отца – ее покорными подданными. Когда моя мать сказала, что ее содержание обойдется не дороже четырех шиллингов в неделю, то Эди, по своей доброй воле, назначила плату в семь шиллингов и шесть пенсов. Ей отдали комнату, выходившую на юг, где было всего больше солнца и окно обвито жимолостью; и надо было только любоваться теми вещами, которые она привезла из Бервика, чтобы поставить в нее. Она ездила туда два раза в неделю, но наша телега не годилась для нее, а потому она нанимала двухколесный фаэтон у Энгуса Уайтгеда, ферма которого находилась за холмом. И она почти всякий раз привозила подарок которому-нибудь из нас: или деревянную трубку отцу, или шотландский плед матери, или какую-нибудь книгу мне, или же медный ошейник для Роба – нашей овчарки. Кажется, не было на свете женщины щедрее ее.
Но самым лучшим подарком для нас было ее присутствие. Благодаря ему самый ландшафт принял для меня иной вид: с того дня, как она приехала, солнце светило ярче, склоны холма казались зеленее и воздух приятнее. Наша жизнь уже не была однообразною как прежде, потому что мы проводили время в обществе такой девушки, какой была она, и старый мрачный серый дом казался мне совсем другим местом с тех пор, как она прошла по циновке, лежавшей у входной двери. Не лицо ее, хотя оно было привлекательным, и не фигура, хотя я не видывал другой такой девушки, которая могла бы сравняться с ней по фигуре, но ее ум, ее оригинальное обращение, в котором проглядывала насмешка, ее новая для нас манера говорить, гордо везти за собой шлейф и вскидывать кверху голову, – вот что производило то, что всякий чувствовал себя как бы землею, по которой она ходила, а затем ее быстрый вызывающий на откровенность взгляд и сказанное ею доброе слово делали то, что человек опять становился на один уровень с нею. Впрочем, нельзя сказать, чтобы он стоял на одном с нею уровне. Мне всегда казалось, что она стоит выше меня, и ушла вперед от меня. Я мог убеждать самого себя, бранить себя и делать, что мне угодно, но не мог заставить себя думать, что в наших жилах течет одна и та же кровь, и что она была только деревенской девушкой, так же, как и я был только деревенским парнем. Чем больше я любил ее, тем больше я ее боялся, и она могла заметить, что я боюсь ее, раньше, чем увидала мою любовь к ней. Когда я был не с ней, то находился в тревожном состоянии, а когда я был с ней, то дрожал все время, потому что боялся, как бы своими нескладными речами не надоесть ей, или чем-нибудь не оскорбить ее. Если бы я лучше знал женщин, то не стал бы так мучиться этим.
– Вы очень переменились, Джек, и стали совсем не таким, как прежде, – сказала она, искоса поглядывая на меня из-под своих черных ресниц.
– А когда мы с вами встретились, то вы сказали, что я не очень переменился, – заметил я.
– Ах! Тогда я говорила о том, что вы не очень переменились на вид, а теперь говорю о вашей манере держать себя. Прежде вы обращались со мной так грубо, так повелительно, все хотели сделать по-своему, вы были точно маленький мужчина. Я помню вас с вашими всклокоченными волосами и плутовскими глазами. А теперь вы такой кроткий, такой скромный и говорите так тихо.
– С годами человек привыкает держать себя, как следует, – сказал я.
– Ах, да, но я скажу вам, Джек, что в прежнем виде вы нравились мне гораздо больше, чем теперь
И когда она говорила это, я смотрел на нее с удивлением: я думал, что она не может мне простить того, как я обращался с ней. Я решительно не мог понять, кому это могло нравиться, – разве только кому-нибудь из сумасшедшего дома. Я вспомнил, что когда она читала, сидя у входной двери, я отправлялся, бывало, в степь с хлыстом из орешника, на конце которого было шесть маленьких глиняных шариков, и бросал в нее этими шариками так, что доводил ее до слез. А потом я вспомнил еще, как я поймал угря в ручейке, в Корримюре, и с ним гонялся за ней, и, наконец, она с криком прибежала к моей матери и спряталась под ее фартук, обезумев от страха, а отец, ударив меня по уху веселкой для похлебки, сшиб меня с ног, и я вместе с угрем покатился под кухонный шкаф для посуды. И вот этого-то ей теперь и недоставало. Ну, так в настоящее время она этого никогда не увидит, потому что у меня скорее отсохнет рука, чем я стану делать это теперь. Но только теперь я стал понимать эту странность в характере женщины, а также то, что мужчина не должен рассуждать о женщине, но только наблюдать и стараться понять ее.
Через несколько времени у нас с ней установились известные отношения, когда она увидела, что может делать, что ей угодно и как угодно, и что она может поманить меня к себе и позвать, точно так же, как я мог распоряжаться старым Робом. Вы подумаете, я был глуп, что позволил вскружить себе голову? Может быть, я и действительно был глуп, но при этом вы должны вспомнить, что я совсем не видал женщин, и теперь нам часто приходилось быть вместе. Кроме того, она была одна из миллиона женщин, а я скажу вам, что нужно было иметь очень крепкую голову для того, чтобы она не вскружила ее.
Да вот хоть бы майор Эллиот, человек, который схоронил трех жен и участвовал в двенадцати настоящих сражениях, так и его Эди могла обвернуть кругом своего пальчика точно мокрую тряпку, – она, девушка, только что вышедшая из пансиона, где была полной пансионеркой. Я встретил его, когда он шел, прихрамывая, из Уэст-Инча в первый раз после того, как она приехала, с румянцем на щеках и блестящими глазами, так что казался лет на десять моложе. Он поднимал кверху свои седые усы и закручивал их до самых глаз и так гордо выступал своей здоровой ногой, точно музыкант, играющий на духовом инструменте. Бог знает, что она сказала ему, но только ее слова подействовали на его кровь точно старое вино.
– Я пришел к тебе, парень, – сказал он, – но теперь мне нужно опять идти домой. Впрочем, я приходил не задаром, потому что имел возможность увидать la belle cousine. Прелестная и очаровательная молодая особа, скажу тебе, парень.
Он выражался очень правильно и точно и любил иногда ввернуть в свою речь какое-нибудь французское слово, потому что в бытность свою на полуострове он немножко научился этому языку. Он так все и продолжал бы говорить о кузине Эди, но я увидал, что у него из кармана торчит уголок газеты, и понял, что он, по своему обыкновению, приходил к нам затем, чтобы сообщить мне какие-нибудь новости, потому что мы, живя в Уэст-Инче, почти ни о чем не слыхали.
– Что новенького, майор? – спросил я.
Он вытащил из кармана газету и помахал ею.
– Союзники одержали большую победу, сын мой. Я думаю, что Нэп (Наполеон) не может долго сопротивляться. Саксонцы оттеснили его, и он был совершенно разбит при Лейпциге. Веллингтон перешел Пиринеи, и полки Грагэма будут скоро в Болонье.
Я подбросил вверх свою шляпу.
– Значит, война прекратится, наконец, – воскликнул я
– Да и пора, – сказал он, покачивая головой с серьезным видом. – Это была кровопролитная война. Ну, теперь уже не стоит говорить о том, какой план был у меня в голове относительно тебя.
– Какой же это план?
– Да вот какой, мой милый: у тебя тут нет настоящего дела, а так как теперь у меня колено стало лучше разгибаться, то я надеялся опять поступить на службу в действующую армию. Я думал, что и ты мог бы пойти в солдаты и послужить под моим начальством.
При одной мысли об этом у меня сильно забилось сердце- Да, я желал бы этого! – воскликнул я.
– Но ведь пройдет не меньше шести месяцев, прежде чем я буду в состоянии сесть на корабль, а почем знать, может быть, Бони (Бонапарт) будет где-нибудь в заточении раньше, чем пройдет это время.
– А что скажет моя мать? – спросил я. – Я думаю, что она меня ни за что не отпустит.
– Ах, да теперь ее совсем не нужно об этом спрашивать, – ответил он и пошел, прихрамывая, своей дорогой.
Я сел на землю среди вереска и, подперев подбородок рукой, начал думать об этом, смотря вслед майору, который шел впереди в своем старом коричневом платье и сером пледе, конец которого развевался по ветру на его плече, выбирая место, где было удобнее идти вверх по холму. Здесь, в Уэст-Инче, где я буду жить до тех пор, пока не займу место отца, – жалкая жизнь: перед моими глазами вечно будут та же степь, один и тот же ручей, все те же овцы и все тот же серый дом. Но там, за синим морем, ах! там настоящая жизнь для мужчины. Вот майор, – он человек не молодой, раненый и растративший свои силы, но и он думает о том, чтобы опять поступить на службу, а я, человек молодой и в полной силе, трачу понапрасну время на склонах этих холмов.
Яркий румянец стыда залил мне лицо, и я вскочил с места, горя нетерпением уехать поскорее отсюда и жить на свете так, как следует мужчине. Я все думал и раздумывал об этом целых два дня, и вот на третий день случилось нечто такое, что сначала заставило меня сразу решиться, но потом от этого же самого принятое мною решение рассеялось точно дым в воздухе.
После полудня я пошел погулять с кузиной Эди и Робом, и мы дошли до такого места, где кончается склон холма, а дальше идет морской берег. То было позднею осенью, и вереск завял и принял бронзовый цвет, но солнце все еще светило ярко, было тепло, и по временам дул теплый южный ветерок, от которого широкая поверхность синего моря покрывалась рябью с белыми волнистыми линиями. Я нарвал папоротников для того, чтобы Эди могла лечь, и вот она лежала тут, как и всегда, с беспечным видом, веселая и довольная, потому что я не встречал другого такого человека, который так наслаждался бы теплотой и светом, как она; я присел на кучку травы, а Роб положил мне на колени свою голову, и когда мы сидели тут спокойно, совершенно одни в этом диком месте, даже и тут мы увидели на воде перед собой тень того великого находившегося за морем человека, который красными буквами начертал свое имя на карте Европы.



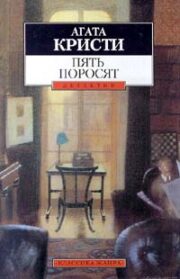

Эта книга показывает тень великого человека бригадира Жерара.
Артур Конан Дойл представляет читателям увлекательное приключение бригадира Жерара.
Эта книга предлагает потрясающие подвиги бригадира Жерара.
Артур Конан Дойл предоставляет читателям невероятное путешествие вместе с бригадиром Жераром.
Эта книга предлагает захватывающие приключения бригадира Жерара.