— Прошу прощения, — сказал я, — вам все же придется иметь дело с Этьеном Жераром.
Барон отпрянул и прислонился к обитой гобеленом стене, дыша хрипло и часто, — сказывался его нечистый образ жизни.
— Отдышитесь, — сказал я. — Я подожду, пока вы придете в себя.
— У вас нет причин враждовать со мной, — задыхаясь, произнес барон.
— У меня к вам есть счетик, — ответил я, — за то, что вы заперли меня в кладовой. А если этого мало, то вот еще одна причина — рука этой дамы.
— Ну так защищайтесь! — взревел он и бросился на меня, как безумный. С минуту я видел только сверкающие голубые глазки и сверкающий конец окровавленной сабли, который наносил мне царапины то справа, то слева, но целился неизменно в горло и грудь. Я не знал, что в Париже во времена революции были такие замечательные фехтовальщики. Каких со мной не было приключений, но я вряд ли встретил и шесть человек, которые бы так искусно владели оружием. Но барон понимал, что со мной ему не справиться. Он прочел свой смертный приговор в моих глазах — я видел это по нему. Краска схлынула с его лица, дыхание стало чаще и тяжелее. Все-таки он не сложил оружия, даже когда получил смертельный удар, и умер, стараясь достать меня саблей, с грязным ругательством на губах и запекшейся на оранжевой бороде кровью. Я, тот, кто вам рассказывает это, видел много сражений, и моя старая память не удержала все их названия, но мои глаза не видели более страшного зрелища, чем эта оранжевая борода с багровым пятном посредине, которое оставил мой клинок.
Едва только его грузное тело рухнуло на пол, как женщина в углу вскочила на ноги, захлопала в ладоши и закричала от радости. Мне, признаться, было неприятно видеть, что женщина так радуется кровавому убийству, я не подумал о том, сколько же она натерпелась, если могла позабыть женскую мягкость. Я уже хотел было приказать, чтобы она замолчала, но вдруг странный, удушливый дым забил мне ноздри, и фигуры на драпировках осветились желтым светом.
— Дюрок, Дюрок! — крикнул я, теребя его за плечо. — Замок горит!
Израненный юноша лежал на полу без чувств. Я выбежал в зал, чтобы определить, где возник пожар. Оказалось, что от нашего взрыва загорелось сухое дерево дверных наличников. В кладовой уже пылали ящики. Я заглянул туда, и во мне застыла кровь при виде пороховых бочек в соседнем помещении и кучки пороха на полу. Еще несколько минут или даже секунд — и огонь подберется к ним. Вот эти самые глаза, друзья мои, до самой смерти будут видеть перед собой ползущие змейки огня и черную кучу пороха.
Я плохо помню, что было дальше. Смутно припоминаю, как я бросился в комнату смерти, как схватил Дюрока за безжизненную руку, женщина схватила его за другую, и мы бросились вон. Выбежали из ворот и устремились по снежной дороге к опушке леса. Едва мы добежали до первых деревьев, как я услышал позади грохот и, оглянувшись, увидел столб огня, взвившийся в зимнее небо. Еще секунда — и раздался второй взрыв, еще более громкий, чем первый. Ели, звезды — все завертелось у меня в глазах, и я упал без чувств рядом с своим товарищем.
Лишь через несколько недель я пришел в себя в аренсдорфской почтовой конторе, и прошло еще немало времени, прежде чем мне рассказали о том, что произошло. И рассказал не кто иной, как Дюрок, уже оправившийся и вернувшийся в строй; сидя у моей постели, он поведал о том, как кусок балки стукнул меня по голове и как я почти замертво упал на землю. От него же я узнал, что молодая полька помчалась в Аренсдорф, подняла на ноги гусар и привела их как раз вовремя, чтобы спасти нас от казачьих пик — казаков вызвал тот самый чернобородый секретарь, который так быстро скакал на лошади по снегу. Что касается молодой дамы, которая дважды спасла нам жизнь, то я не мог ничего толком узнать о ней от Дюрока, но через два года, когда я после Ваграмской кампании случайно встретил его в Париже, меня нисколько не удивило, что его молодая жена была мне знакома и что по странной прихоти судьбы он приобрел право — и, если бы захотел, мог им пользоваться — носить имя и титул барона Штраубенталя и, следовательно, был владельцем обугленных развалин Черного замка.
Глава II
Как бригадир перебил братьев из Аяччо
Когда императору требовалось доверенное лицо для услуг, он оказывал мне честь, вспоминая имя Этьена Жерара, хотя это имя частенько выпадало у него из памяти при распределении наград. Но все же я в двадцать восемь лет был полковником, а в тридцать один год — бригадиром, так что у меня нет причин обижаться на него. Если б война продлилась еще два-три года, я наверняка бы получил маршальский жезл, а там уже всего один шаг до трона. Сменил же Мюрат гусарский кивер на корону, отчего же другому отважному кавалеристу не сделать того же? Но все эти мечты разбило в прах Ватерлоо, и, хотя мне не удалось вписать свое имя в историю, все-таки оно достаточно известно всем, кто сражался в великих войнах империи.
Сегодня я расскажу вам об одном весьма любопытном деле, с которого и началось мое быстрое продвижение по службе и которое связало меня с императором тайными узами.
Но сначала я хочу кое о чем вас предупредить. Слушая мои рассказы, вы должны помнить, что перед вами человек, который видел историю, так сказать, изнутри. Я рассказываю о том, что видел своими глазами и слышал своими ушами, так что вы не пытайтесь возражать мне, ссылаясь на какого-нибудь ученого или там писателя, написавших исторические исследования или мемуары. Есть много такого, чего не знают, эти люди и никогда не узнает мир. Я бы мог порассказать поразительнейшие вещи, но только это было бы, с моей стороны, нескромно. То, что вы сегодня от меня услышите, я держал в тайне, пока был жив император, потому что дал ему слово молчать, но теперь, думается, никому не будет вреда от того, что я расскажу о той выдающейся роли, которую мне пришлось тогда сыграть.
Надо вам сказать, что во время Тильзитского мира я был самым обыкновенным лейтенантом Десятого гусарского полка, небогатым и незнатным. Правда, наружность и отвага располагали ко мне людей, и я уже заслужил славу одного из лучших фехтовальщиков в армии, но среди сонмища храбрецов, окружавших императора, это считалось недостаточным, чтобы обеспечить быстрое продвижение по службе. Тем не менее я был уверен, что придет и мой день, хотя мне и не снилось, что это будет так скоро.
В 1807 году, когда император вернулся в Париж после заключения мира, он проводил много времени с императрицей в Фонтенбло. Он находился тогда на самой вершине своей славы. Проведя одну за другой три кампании, он усмирил Австрию, сокрушил Пруссию и заставил русских радоваться, что они добрались до правого берега Немана. Старый бульдог по ту сторону Ла-Манша еще рычал, но не мог уйти далеко от своей конуры. Если бы нам удалось установить в то время постоянный мир, Франция была бы сильнее всех других государств на свете со времен Римской империи, так говорили умные люди; я-то в те дни думал совсем о других вещах. Женщины обрадовались возвращению армии после столь долгого отсутствия, и уж, поверьте, я сполна получил свою долю милостей. Судите сами, как меня баловали в те времена, если даже сейчас, когда мне стукнуло шестьдесят… впрочем, зачем распространяться о том, что и так хорошо известно?
Наш гусарский полк квартировал в Фонтенбло вместе с конными егерями гвардии. Фонтенбло, как вам известно, маленький городок, затерявшийся среди густых лесов, и как-то диковинно было видеть в нем толпы разных великих князей, и курфюрстов, и принцев, которые осаждали императора, как собачонки — хозяина в надежде, что им перепадет кость. На улице чаще слышался немецкий говор, чем французский, ибо те, кто помогал нам в последней войне, явились выпрашивать награды, а те, которые сражались против нас, приехали, чтобы замолить грехи и отвести от себя кару.
А наш маленький человечек с бледным лицом и холодными серыми глазами каждое утро ездил на охоту, молчаливый и задумчивый, и все остальные тянулись за ним хвостом, надеясь, что он бросит им хоть слово. А потом, если на него находил такой стих, он кидал сотню квадратных миль одному или отнимал столько же у другого, окружал одно королевство рекой или огораживал другое цепью гор. Вот таким манером он вершил дела, этот маленький артиллерист, которого мы своими саблями и штыками вознесли на такую высоту. Он всегда был с нами очень учтив — он знал, кому он обязан силой. Мы тоже знали и всячески показывали это своим поведением. Мы, конечно, признавали, что он лучший полководец в мире, но при этом помнили, что ведет он лучших в мире солдат.
Так вот, сижу я однажды дома и играю в карты с Моратом из конно-егерского, как вдруг открывается дверь и входит Лассаль, наш полковник. Вы помните, какой это был красавчик и щеголь, и небесно-голубой мундир Десятого полка шел ему необыкновенно. Клянусь честью, мы, молодые солдаты, были так им покорены, что хотелось нам того или нет, но все мы ругались, чертыхались, пили и играли в кости, лишь бы походить на нашего полковника! Мы как-то не думали о том, что не из-за выпивок и игры в кости император собирался назначить его командующим легкой кавалерией, а потому, что во всей армии у него был самый верный глаз, когда дело касалось определения характера позиции или силы вражеской колонны, и он мог лучше всех судить, когда можно прорвать пехоту или где обнажена артиллерия. По молодости лет мы всего этого не понимали, и фабрили усы, бряцали шпорами и стирали наконечники сабельных ножен, волоча их по булыжным мостовым в надежде, что все мы станем Лассалями. Когда он, гремя шпорами и саблей, вошел в мою квартиру, мы с Моратом вскочили на ноги.
— Малыш, — сказал он, похлопав меня по плечу, — тебя желает видеть император сегодня в четыре часа.
От этих слов комната пошла ходуном перед моими глазами, и мне пришлось ухватиться за край ломберного стола.


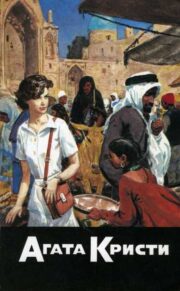
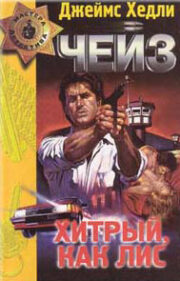

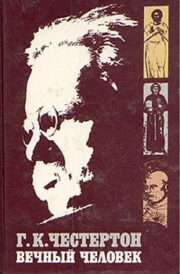
Эта книга показывает тень великого человека бригадира Жерара.
Артур Конан Дойл представляет читателям увлекательное приключение бригадира Жерара.
Эта книга предлагает потрясающие подвиги бригадира Жерара.
Артур Конан Дойл предоставляет читателям невероятное путешествие вместе с бригадиром Жераром.
Эта книга предлагает захватывающие приключения бригадира Жерара.