Дело было после битвы при Фер-Шампенуаз, где новобранцы в блузах и деревянных башмаках воевали так, что мы, самые проницательные, почувствовали приближение конца. Наши боеприпасы были захвачены врагом, наши пушки замолчали, зарядные ящики были пусты. Кавалерия тоже пришла в жалкое состояние, и моя собственная бригада была разбита в атаке при Краоне. А потом пришли известия, что враг взял Париж, где горожане подняли белую кокарду, и, наконец, самое ужасное — что Мармон со своим корпусом перешел на сторону Бурбонов. Мы только переглядывались и спрашивали друг друга, сколько же еще из наших генералов нас предадут. Журден, Мармон, Мюрат, Бернадот и Жомини уже сделали это, хотя о Жомини никто не жалел, потому что перо его было острее шпаги. Мы были готовы воевать против Европы, но теперь выходило, что придется воевать не только против Европы, но и против половины Франции.
После долгого форсированного марша мы дошли до Фонтенбло и собрались там — жалкие остатки армии: корпус Нея, корпус моего двоюродного брата Жерара и корпус Макдональда, всего двадцать пять тысяч из них семь тысяч гвардейцев. Но у нас была слава, которая стоила пятидесяти тысяч, и наш император, который стоил еще пятидесяти. Император всегда был с нами, спокойный, улыбающийся, уверенный; он как ни в чем не бывало нюхал табак и пощелкивал хлыстиком. Даже в дни его величайших побед я не восхищался им так, как во время битвы за Францию.
Как-то вечером я пил сюренское вино в обществе офицеров своей бригады. Я говорю, что это было сюренское, чтобы вы поняли, какие нелегкие для нас настали времена. Вдруг мне доложили, что Бертье требует меня к себе. Когда я говорю о своих старых соратниках, я, с вашего позволения, буду отбрасывать все красивые иностранные титулы, которые они получили во время войн. Эти титулы хороши при дворе, но их никогда не услышишь в армии, потому что мы никак не могли расстаться с нашим Неем, Раппом или Сультом — эти имена звучали музыкой в наших ушах, как звуки труб, играющих побудку. Итак, Бертье вызвал меня к себе.
Его резиденция была в конце галереи Франциска Первого, неподалеку от покоев императора. В приемной уже ждали два офицера, которых я хорошо знал: полковник Депьен из Пятьдесят седьмого линейного полка и капитан Тремо из Вольтижерского. Оба были старые вояки — Тремо побывал еще в Египте, — и, кроме того, оба славились в армии своей храбростью и умением владеть оружием. У Тремо рука несколько ослабела, но Депьен, стоило ему хорошенько постараться, мог бы заставить попотеть меня самого. Это был коротышка дюйма на три ниже хорошего мужского роста, — он был ровно на три дюйма ниже меня, но во владении саблей и шпагой он несколько раз успешно соперничал со мной, когда показывал свое искусство в Верронском фехтовальном зале в Пале-Рояль. Сами понимаете, когда мы все трое очутились в одной комнате, то сразу почуяли, что пахнет чем-то серьезным. Если видишь салат и приправу, сразу ясно, какое готовится блюдо.
— Клянусь моей трубкой! — сказал Тремо по-солдатски грубо. — Уж не ожидают ли прибытия троих приверженцев Бурбонов?
Нам эта мысль показалась весьма вероятной. Ну конечно же, из всей армии именно нас троих и могли избрать для встречи с ними.
— Князь Нешательский желает говорить с бригадиром Жераром, — объявил лакей, появляясь в дверях.
Я вошел, а двое моих товарищей остались ждать, снедаемые нетерпением. Кабинет был небольшой, но роскошно обставленный. Бертье сидел за столиком с пером в руке, и перед ним лежал открытый блокнот. Усталый и неряшливый с виду, он был совсем не похож на того Бертье, который слыл законодателем мод во всей армии и часто заставлял нас, менее состоятельных офицеров, рвать на себе волосы, когда оторачивал ментик в одну кампанию простым мехом, а в другую — каракулем. По его гладко выбритому лицу видно было, что ему не по себе, и, когда я вошел, он посмотрел на меня каким-то бегающим, неприятным взглядом.
— Командир бригады Жерар! — сказал он.
— Слушаю вас, ваше высочество! — отозвался я.
— Прежде чем начать разговор, я прошу вас дать мне честное слово благородного человека и офицера, что все сказанное останется между нами.
Клянусь, начало было многообещающее! У меня не было иного выбора, как дать слово.
— Знайте же, что дело императора проиграно, — сказал он, глядя в стол и медленно, словно с большим трудом, подбирая слова. — Журден в Руэне и Мармон в Париже подняли белую кокарду, ходят слухи, что Талейран уговорил Нея сделать то же самое. Совершенно ясно, что дальнейшее сопротивление бессмысленно и не может принести нашей стране ничего, кроме несчастий. Итак, я спрашиваю вас, готовы ли вы вместе со мной захватить императора и положить конец войне, передав его в руки союзников?
Уверяю вас, что, услышав это гнусное предложение, сделанное мне, старому другу императора, который получил от него больше милостей, чем любой из его приверженцев, я мог только стоять как столб и пялить на него глаза. А он кусал перо и поглядывал на меня, склонив голову.
— Ну? — спросил он.
— Я глуховат на одно ухо, — отвечал я ледяным тоном. — Есть вещи, которых я не слышу. Прошу вас, позвольте мне вернуться к исполнению моих обязанностей.
— Ну-ну, не будьте же таким упрямым, — сказал он, вставая, и положил руку мне на плечо. — Вы же знаете, что сенат отстранил Наполеона от власти и император Александр отказывается вести с ним переговоры.
— Мсье! — горячо воскликнул я. — Да будет вам известно, что в моих глазах сенат вместе с императором Александром не стоят осадка в выпитом бокале!
— Что же имеет значение в ваших глазах?
— Моя честь и верность моему славному повелителю, императору Наполеону.
— Все это превосходно, — сказал Бертье, раздраженно пожимая плечами. — Но факты остаются фактами, и мы, как разумные люди, должны смотреть им в глаза. Вправе ли мы противостоять воле народов? Вправе ли в довершение всех наших несчастий допустить гражданскую войну? И, кроме того, наши силы тают. Каждый час приходят известия о все новых дезертирствах. Пока не поздно, надо заключить мир с противником; к тому же мы получим немалую награду, выдав императора.
Я потряс головой так решительно, что сабля зазвенела у меня на боку.
— Мсье! — воскликнул я. — Не думал я дожить до такого дня, когда маршал Франции падет так низко, что сделает мне столь гнусное предложение. Оставляю вас на суд собственной вашей совести. Что же до меня, то пока я не получу личный приказ императора, сабля Этьена Жерара всегда будет защищать его от врагов.
Я был так растроган этими словами и собственным благородством, что голос мой пресекся и я едва сдержал слезы. Хотел бы я, чтобы вся армия видела, как я стоял с высоко поднятой головой, приложив руку к сердцу, провозглашая свою преданность императору в трудную минуту. Это было одно из самых великих мгновений моей жизни.
— Что ж, прекрасно, — сказал Бертье и звонком вызвал лакея. — Проводите бригадира Жерара в гостиную.
Лакей провел меня во внутренние покои и предложил сесть. Но моим единственным желанием было уйти, и я никак не мог понять, почему меня задерживают. Человек, который ни разу не сменил мундир за всю зимнюю кампанию, чувствует себя неловко во дворце.
Я прождал около четверти часа, а потом лакей снова распахнул дверь, и вошел полковник Депьен. Боже правый, что у него был за вид! Его лицо стало белым, как гетры гвардейца, глаза были вытаращены, вены на лбу вздулись, а усы встопорщились, как у разъяренной кошки. Он был слишком рассержен, чтобы говорить, и лишь потрясал над головой кулаками, а в горле у него клокотало.
— Отцеубийца! Змея!
Только эти слова я и слышал, пока он метался по комнате.
Мне было совершенно ясно, что ему сделали то же гнусное предложение и он ответил в том же духе, что и я. Он ничего не сказал мне, как и я ему, потому что оба мы дали слово, но все же я пробормотал: «Ужасно! Неслыханно!» — давая ему понять, что я с ним согласен.
Он все еще метался взад-вперед по комнате, а я сидел в углу, как вдруг в кабинете, из которого мы незадолго перед тем вышли, раздался невероятный шум. Это было хриплое, злобное рычанье, словно разъяренная собака вцепилась в добычу. Потом раздался треск и крик о помощи. Мы оба вбежали в кабинет и, клянусь, только-только поспели вовремя.
Старина Тремо и Бертье покатились на пол, опрокинув стол на себя. Капитан желтой, костлявой рукой стиснул горло маршала, чье лицо уже стало свинцового цвета, а глаза вылезли из орбит. Тремо был вне себя, в углах его рта выступила пена, а на лице было такое безумное выражение, что, я уверен, если б мы не разжали его железную хватку палец за пальцем, он задушил бы маршала насмерть. От усилия у него даже ногти побелели.
— Это дьявол! Он искушал меня! — крикнул Тремо, с трудом вставая на ноги. — Да, меня искушал дьявол!
Бертье же молча прислонился к стене и несколько минут не мог отдышаться, приложив руку к горлу и вертя головой. Потом он раздраженно повернулся к тяжелой голубой шторе за креслом.
Штора отдернулась, и в комнату вошел император. Мы все трое вытянулись и отдали честь, но нам казалось, что это сон, и глаза у нас самих полезли на лоб, как только что у Бертье. Наполеон был в зеленом егерском мундире и держал в руке хлыст с серебряной рукояткой. Он взглянул на каждого из нас по очереди с улыбкой — со своей ужасной улыбкой, которая не отражалась ни в глазах, ни на лице, — у каждого, я уверен, мороз прошел по коже, потому что взгляд императора почти на всех оказывал именно такое действие. Потом он подошел к Бертье и положил руку ему на плечо.
— Вы не должны обижаться на удары, дорогой князь, — сказал он.
Он умел придавать своему голосу мягкий, ласковый тон. Ни в чьих устах французский язык не звучал так красиво, как в устах императора, и ни в чьих устах он не бывал таким резким и беспощадным.



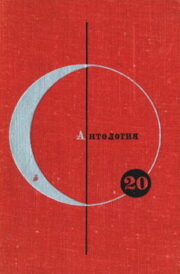
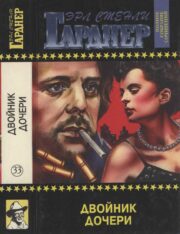
Эта книга показывает тень великого человека бригадира Жерара.
Артур Конан Дойл представляет читателям увлекательное приключение бригадира Жерара.
Эта книга предлагает потрясающие подвиги бригадира Жерара.
Артур Конан Дойл предоставляет читателям невероятное путешествие вместе с бригадиром Жераром.
Эта книга предлагает захватывающие приключения бригадира Жерара.