Прежде всего надо вам сказать, что у меня было очень большое преимущество — я немножко умел говорить по-английски. Я выучился этому за несколько месяцев перед осадой Данцига у адъютанта Обрайена из Ирландского полка, потомка древнего королевского рода. За небольшой срок я научился довольно бегло болтать — я вообще могу быстро усвоить все, что угодно, если уж захочу. Через каких-нибудь три месяца я мог не только объясняться, но и употреблять английские идиомы. Обрайен научил меня говорить «Разгрызи меня бог» — это все равно, что по-нашему «Ma foi»[7] и еще: «Исчадие гада», что значит «Ventre bleu»[8]. Не раз я видел, как англичане улыбались от удовольствия, слыша, что я говорю точь-в-точь, как они.
Нас, офицеров, помещали по двое в камере, что мне не слишком нравилось, так как моим сожителем оказался высокий молчаливый малый по имени Бомон из полевой артиллерии, попавший в плен к англичанам под Асторгой.
Редко мне приходилось встречать человека, с которым я не мог подружиться, потому что и нрав и манера держаться у меня… ну, да вы сами знаете. Но этот Бомон никогда не смеялся моим шуткам, не сочувствовал моим горестям, — он сидел и смотрел на меня угрюмым взглядом, и в конце концов я начал думать, что после двух лет заключения он тронулся умом. Ах, как мне хотелось, чтобы вместо этой мумии со мной был старый Буве или кто-нибудь из моих товарищей-гусар! Но ничего не поделаешь, приходилось мириться и с таким компаньоном, к тому же было ясно, что никакой побег невозможен, если он не будет в нем участвовать, иначе что бы я мог сделать, постоянно находясь у него на глазах? Я заговорил о побеге сначала обиняками, потом напрямик, и мне показалось, что я убедил его действовать со мной заодно.
Я исследовал стены, исследовал пол и потолок, но сколько я их ни ощупывал и ни выстукивал, всюду они были одинаково толстыми и непроницаемыми. Дверь была железная, запиралась на замок с пружиной, в ней была маленькая решетка, сквозь которую дважды в ночь заглядывал часовой. В камере стояли две койки, две табуретки, два умывальника — и больше ничего. Мне и этого было достаточно — разве я привык к лучшему за двенадцать лет походной жизни? Но как мне выбраться отсюда? Каждую ночь я думал о своих пятистах гусарах, и мне снились страшные сны: то все мои гусары оказывались без сапог, то всех лошадей раздуло от отравы, то у них воспалились копыта или же все шесть эскадронов в присутствии императора перепутали строй. Я просыпался в холодном поту и снова начинал ощупывать и простукивать стены, ибо я знал, что нет трудности, которую нельзя преодолеть с помощью изобретательного ума и пары ловких рук.
Единственное окошко нашей камеры было так мало, что в него не пролез бы и ребенок; к тому же посредине оно было разделено толстым железным брусом. Как видите, в смысле побега оно сулило немного надежды, но я все больше убеждался, что наши попытки надо начинать именно с него. Словно для того, чтобы еще ухудшить дело, окошко выходило во двор для прогулок, обнесенный двумя высокими стенами. И все же, стоя за Рейном, пора говорить о Висле, как я сказал моему угрюмому товарищу. Поэтому я отломал от койки маленькую железку и принялся отбивать штукатурку вверху и у основания оконного бруса. Я трудился три часа подряд, потом, заслышав шаги тюремщика, бросался на койку и немного погодя снова принимался за работу, а через три часа опять делал перерыв. Бомон оказался столь медлительным и неуклюжим, что мне пришлось рассчитывать только на себя.
Я представлял себе, что за окошком меня ждет Третий гусарский полк, с литаврами и знаменами, с леопардовыми чепраками на конях. И тогда я работал как одержимый, пока моя железка не покрывалась засохшей кровью, словно ржавчиной. Так, ночь за ночью я долбил окаменевшую штукатурку и прятал куски в подушку, пока не настала минута, когда железный брус стал шататься; тогда я рванул его изо всех сил и выломал. Это было первым шагом к свободе.
Вы спросите меня, к чему все это, если в окошко не мог бы пролезть даже ребенок. Я вам отвечу. Выломав брус, я добыл сразу две вещи: инструмент и оружие. С помощью инструмента можно было расшатать камни, которыми было облицовано окно. Оружием я могу защищаться, когда вылезу через это окно. Итак, теперь я принялся за камни и долбил вокруг них заостренным концом бруса, пока не отбил всю известку. Само собой, днем я все убирал на место, и тюремщик не видал на полу ни песчинки. Так прошло почти три недели, и наконец я высвободил камень, в неописуемом восторге вытащил его и в окошко, сквозь которое раньше виднелось четыре звезды, увидел целых десять. Теперь все было готово; я поставил камень на место, смазав его края жиром и сажей, чтобы скрыть трещины там, где прежде была известь. Через три ночи должна была скрыться луна, и это, конечно, было самое лучшее время для попытки к бегству.
В том, что я спущусь во двор, я не сомневался; гораздо больше меня беспокоило, как я оттуда выйду. Слишком унизительно было бы после всех стараний снова оказаться в этой дыре, уже без всякой надежды, или же быть схваченным стражей, которая бросит меня в одну из сырых подземных камер, предназначенных для тех, кто пытался бежать. Я стал обдумывать всевозможные планы. Как вам известно, у меня никогда не было случая показать себя в качестве генерала. Иногда, после стакана-другого вина, я убеждаюсь, что способен придумывать самые неожиданные комбинации и что если бы Наполеон в свое время поручил мне армейский корпус, его судьба могла бы сложиться иначе. Но как бы то ни было, а что касается маленьких военных хитростей и смекалки, необходимой офицеру легкой кавалерии, то тут я могу потягаться с кем угодно. И вот тогда-то эти качества мне пригодились, и я не сомневался, что они меня не подведут.
Внутренняя стена, по которой мне предстояло вскарабкаться, была высотой в двенадцать футов, сложена из кирпичей и по верху утыкана железными шипами на расстоянии трех дюймов один от другого. Внешнюю стену я мог рассмотреть только мельком, раза два, когда ворота дворика для прогулок были открыты. Она, видимо, была такой же вышины и с такими же шипами наверху, от внутренней до внешней стены было больше двадцати футов, и у меня имелись основания полагать, что в этом промежутке часовых не было, они стояли у ворот. Однако я знал, что снаружи стена оцеплена солдатами. Видите, друзья, какой мне попался крепкий орешек, и раздавить его было нечем, кроме пары собственных рук.
Я возлагал все надежды на рост моего сотоварища, Бомона. Я уже говорил, что он был очень высок, не меньше шести футов росту, и казалось, что если я взберусь ему на плечи и как-нибудь зацеплюсь за острые железки, то смогу перелезть через стену. Но удастся ли мне перетащить потом грузного Бомона? Это был вопрос первостепенной важности, так как если я затеваю что-нибудь вместе с товарищем, то пусть даже я не питаю к нему нежных чувств, все равно ничто на свете не заставит меня покинуть его. Если я взберусь на стену, а он не сможет последовать за мной, я буду вынужден вернуться за ним. Впрочем, судя по всему, его это нисколько не тревожило, и я надеялся, что он уверен в своей ловкости.
Не менее важно было знать, какой часовой будет дежурить перед моим окошком в ту ночь, когда мы начнем осуществлять свою попытку. Часовых сменяли каждые два часа, чтобы не притуплялась их бдительность; я очень пристально наблюдал за ними каждую ночь из окошка и убедился, что они ведут себя по-разному. Одни были все время настороже, так, что даже крыса не могла пробежать через двор незамеченной; другие же думали только о своих удобствах и, опершись на ружье, сладко спали, словно у себя дома в пуховой постели. Среди них был один, неповоротливый толстяк, который, прикорнув в тени под стеной, так крепко спал все два часа, что не слышал даже, как я бросал из окошка к его ногам куски штукатурки. Нам повезло: этот часовой должен был дежурить от двенадцати до двух в ту ночь, на которую мы назначили побег.
В последний день меня охватило такое сильное нервное возбуждение, что никак не мог взять себя в руки и беспрерывно бегал по камере, словно мышь в клетке. Мне чудилось, что вот-вот тюремщик обнаружит расшатанный железный брус или часовой заметит щель между стеной и камнем, которую я не мог прикрыть снаружи обитой известкой, как я это сделал внутри. А мой компаньон в это время сидел, нахохлившись, на краю своей койки, искоса поглядывал на меня и грыз ногти, словно что-то напряженно обдумывая.
— Мужайся, друг! — воскликнул я, хлопнув его по плечу. — Не пройдет и месяца, как ты снова увидишь свои пушки!
— Все это хорошо, — сказал он, — но куда ты подашься, когда очутишься на свободе?
— На побережье, — ответил я. — Храброму во всем удача, и я отправлюсь прямо в свой полк.
— Скорее всего ты отправишься прямо в подземную камеру или на дырявое судно в Портсмуте.
— Солдат не боится рисковать, — заметил я. — Только трус всегда рассчитывает на худшее.
Мои слова вызвали красные пятна на его землистых щеках, и я порадовался: впервые я заметил в нем какие-то признаки воодушевления. Он даже протянул руку к кружке с водой, словно хотел швырнуть ее в меня, но тут же пожал плечами и опять замолк, грызя ногти и хмуро уставясь в пол. Глядя на него, я невольно подумал, что, быть может, делаю полевой артиллерии плохую услугу, возвращая ей такого вояку.
В жизни моей не было вечера, который тянулся бы так медленно. К ночи поднялся ветер, и чем больше сгущалась тьма, тем сильнее становились его завываний, и наконец над огромной пустошью разразился страшный ураган. Я глядел в окошко — нигде ни одной звезды, сплошные черные тучи низко летели над землей. Сквозь шорох и плеск хлынувшего дождя, сквозь вой и свист ветра я не мог расслышать шагов часового. «Если я его не слышу, — подумал я, — значит, и он меня вряд ли услышит». Сгорая от нетерпения, я дожидался минуты, когда надзиратель, совершая свой еженощный обход, заглянет в зарешеченное отверстие. Затем, вглядевшись в темноту и не увидев часового, который, без сомнения, забился куда-то от дождя и крепко спал, я решил, что настал наш час. Я вынул брус, вытащил камень и знаком предложил Бомону спускаться.


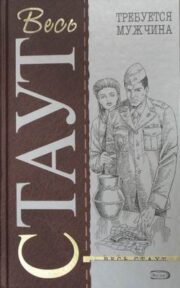

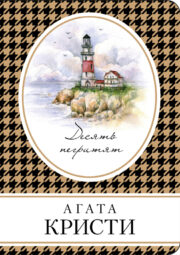
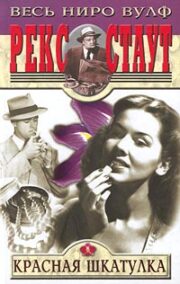
Эта книга показывает тень великого человека бригадира Жерара.
Артур Конан Дойл представляет читателям увлекательное приключение бригадира Жерара.
Эта книга предлагает потрясающие подвиги бригадира Жерара.
Артур Конан Дойл предоставляет читателям невероятное путешествие вместе с бригадиром Жераром.
Эта книга предлагает захватывающие приключения бригадира Жерара.