— Не бери в голову, — успокоил его лорд Питер. — Только что вернулся?
— Пересек Ла-Манш прошлой ночью. Есть новости?
— Много.
— Хорошие?
— Нет.
Взгляд Паркера скользнул по фотографиям.
— Не верю, — отрешенно проговорил он. — Будь я проклят, если поверю из этого хоть единому слову.
— Единому слову из чего?
— Что бы это ни было.
— Придется поверить, Чарлз, — мягко проговорил приятель, набивая трубку короткими решительными нажимами пальцев. — Я не утверждаю, что Мэри застрелила Кэткарта, — нажим, нажим, — но она лжет, — нажим, — лжет снова и снова. — Нажим, нажим. — Она знает, кто это сделал. — Нажим. — Была к этому готова, — нажим, — а теперь притворяется и говорит неправду, чтобы выгородить некоего человека. Надо заставить ее заговорить. — Лорд Питер чиркнул спичкой и серией коротких сердитых пыхов раскурил трубку.
— Если ты считаешь, — начал Паркер с жаром, — что эта женщина, — он указал на фотографию, — приложила руку к убийству Кэткарта, я не буду требовать улик. Пропади все пропадом, Уимзи, — она твоя сестра!
— А Джеральд — мой брат, — едва слышно заметил лорд Питер. — Ты же не станешь утверждать, что мне нравится наше занятие. Но мы лучше справимся с задачей, если будем сохранять хладнокровие.
— Прости, ради бога, — извинился Паркер. — Не понимаю, как у меня вырвалось. — Прости, старина. Самое лучшее, что мы можем сделать, — посмотреть в лицо фактам, какими бы неприятными они ни казались. Не стану отрицать: некоторые из них страшнее горгульи.
— Мать приехала в Риддлсдейл в пятницу, сразу поднялась наверх и занялась Мэри, пока я слонялся в холле, дразнил кота и досаждал сам себе, — начал рассказ Уимзи. — Появился старина доктор Торп. Я устроился на лестнице на сундуке. Прозвенел колокольчик. Явилась Эллен. Мать и доктор Торп перехватили ее у комнаты Мэри и долго о чем-то спорили. Затем мать бросилась по коридору так, что стучали каблуки и в ушах сердито отплясывали серьги. Я прокрался за ними к двери ванной, но ничего не разглядел, поскольку они закрылись. Зато услышал, как мать сказала: «Что я говорила?» — и Эллен ответила: «Боже, кто бы мог подумать, ваша светлость!» Мать снова: «Если бы я надеялась, что в случае чего вы спасете меня от отравления мышьяком или сурьмой — вы знаете, о чем я говорю: о снадобье, при помощи которого вполне симпатичный мужчина с нелепой бородкой избавился от жены и тещи (которая была намного привлекательней своей дочери)[47], — то лежала бы теперь вскрытая на столе доктора Спилсбери[48]. Отвратительная, незавидная работа — изучать людей, как бедных подопытных кроликов».
Уимзи прервался перевести дыхание, и Паркер, несмотря на горькие чувства, невольно рассмеялся.
— За точность слов не ручаюсь, — продолжал лорд Питер, — но смысл такой. Ты же знаешь стиль моей матери. Доктор Торп пытался сохранить внешнее достоинство, но мать, раскудахтавшись словно наседка, сверкнула на него глазами. «В мои дни мы называли такие состояния истерикой и озорством. Не позволяли девушкам нас дурачить. А вы называете это неврозом, или мнимым желанием, или рефлексом, пестуете и доводите несчастное создание до реальной болезни. Вы смешны и способны позаботиться о себе не лучше, чем малые дети. Хотя в трущобах обитает множество подростков, заботящихся о целых семьях. В одном таком парне больше здравого смысла, чем в вас вместе взятых. Я очень сердита на Мэри за ее поведение, и нечего ее жалеть».
Уимзи помолчал и добавил:
— Мне кажется, зачастую в материнских словах много дельного.
Паркер кивнул.
— Потом я спросил у матери, что происходит. Она ответила, что Мэри не сказала ей ничего ни о себе, ни о своем недуге, только потребовала оставить в покое. Торп, рассуждая о нервном срыве, заявил, что не в состоянии объяснить природу болезненных припадков Мэри и почему у нее скачет температура. Мать выслушала и попросила измерить температуру Мэри сейчас. Он послушался, но посреди процесса мать отозвала его к туалетному столику, однако, будучи воробьем стреляным, не сводила глаз с зеркала и, вовремя обернувшись, застукала Мэри, которая прижимала градусник к горячей грелке. Это и служило причиной таких огромных скачков.
— Надо же так всех надуть! — воскликнул Паркер.
— Вот и Торп клюнул. Мать высказалась по этому поводу так: если эта старая ворона дожила до седых волос, но не может распознать такой древний трюк, то и нечего строить из себя почтенного семейного врача. А затем спросила горничную о приступах: когда они случаются, как часто, до еды или после и прочее. Оказалось — как правило, после завтрака, а иногда в другое время. Мать призналась, что поначалу не могла догадаться, что к чему, — обшарила всю комнату в поисках бутылки или чего-нибудь подобного, — и наконец, поинтересовалась, кто убирает постель: решила, Мэри может что-нибудь прятать под матрасом. Эллен ответила, что обычно убирает она, пока Мэри принимает ванну. «В какое время?» — спросила мать. «Прямо перед своим завтраком», — проблеяла девица. «Господь тебе судья, простофиля! — бросила мать. — Что же ты раньше не сказала?»
Они отправились в ванную и там, на полке, среди пузырьков с солями, жидкими мазями, слабительным, зубными щетками, обнаружили семейную бутыль с ипекакуаной — на три четверти пустую! Это такая настойка из рвотного корня. Мать сказала… впрочем, я уже говорил, что она сказала. Кстати, как пишется «ипекакуана»?
Паркер показал.
— Черт! А я решил, что подловил тебя, что, прежде чем ответить, тебе придется куда-нибудь сходить, полазить по справочникам. Ни один нормальный человек не держит в голове, как пишется «ипекакуана». Ты правильно говоришь: можно сразу понять, по какой линии в семье передается детективный инстинкт.
— Я ничего подобного не говорил…
— Знаю. А почему? Разве таланты моей матери не заслуживают хотя бы частичного признания? Кстати, я ей это сказал, и она ответила вот такими памятными словами: «Мой дорогой сын, можешь называть это как угодно длинно, но я старомодная женщина и зову это материнской мудростью — качеством, настолько у мужчин редким, что, если им кто-нибудь обладает, о нем следует написать книгу и назвать Шерлоком Холмсом». Кроме того, я ей сказал (разумеется, наедине): все это хорошо, но я не могу поверить, чтобы Мэри взяла на себя труд такое проделать только для того, чтобы своей болезнью произвести на нас впечатление. Не такой она человек. Мать посмотрела на меня пристально, как сова, и привела несколько примеров истерии в мире, последним из которых стал случай с горничной, которая разбрасывала по комнатам парафин, чтобы люди подумали, что в доме завелись привидения. И заключила: если новомодные доктора съехали с катушек, чтобы напридумывать подсознание, клептоманию, комплексы и хитроумные состояния, чтобы объяснить, почему люди совершают неприглядные поступки, найдутся такие, кто начнет извлекать из этого выгоду.
— Уимзи! — взволновался Паркер. — Она имела в виду, что подозревает что-то?
— Старина, — ответил лорд Питер, — если о Мэри можно что-то узнать, сложив два и два, матери это известно. Я рассказал, что нам удалось выяснить, она выслушала на свой известный тебе смешливый манер, наклонив голову — и, как обычно, не отвечая прямо, заявила: «Вот если бы Мэри меня послушала и не занималась медицинской чепухой в Добровольной организации — только учти, я ничего не имею против Добровольной организации в целом, но ее тогдашняя глупая начальница была величайшим на земле снобом, — то могла бы совершить много полезного при разумном поведении, на которое вполне способна. Но она рвалась в Лондон — величайшая на свете глупость. Я не перестану утверждать, что все это вина того смехотворного клуба. А чего еще ждать от места, где едят всякую дрянь, собираются в выкрашенном в красный цвет подвале, орут во все горло, не носят вечернего платья, а только советские джемперы, и отращивают бакенбарды. Как бы то ни было, я сказала старому дуралею доктору, что нужно говорить по этому поводу; лучшего объяснения им самим никогда не придумать». На самом деле, знаешь, — добавил лорд Питер, — мне кажется, если кто начнет любопытничать, мать обрушится на них, как тонна кирпича.
— Сам-то ты что думаешь? — спросил Паркер.
— Я еще не дошел до самого неприятного, — ответил лорд Питер. — Узнал это совсем недавно, и, должен признать, новость меня сильно расстроила. Вчера я получил письмо от Лаббока. В нем говорится, что он желает со мной повидаться. Направляясь утром сюда, я завернул к нему. Если помнишь, я послал ему пятно, которое Бантер вырезал для меня с юбки Мэри. Я тогда сам бросил на него взгляд. Пятно мне не понравилось, поэтому я отправил его Лаббоку, ex abundantia cauteloe[49]. Должен с прискорбием сообщить: Лаббок подтвердил мои опасения. Это человеческая кровь, и, боюсь, Чарлз, кровь Кэткарта.
— Но… Похоже, я слегка потерял нить.
— Кровь попала на юбку в тот день, когда погиб Кэткарт. Тогда компания в последний раз выходила на болото. Если бы это случилось раньше, Эллен ее бы отчистила. Впоследствии Мэри отчаянно сопротивлялась попыткам служанки унести юбку и неумело пыталась отмыть пятно с мылом. Думаю, можно сделать вывод, что Мэри знала о пятне на юбке и не хотела, чтобы его обнаружили. Она сказала Эллен, что на юбке кровь куропатки, что было явной неправдой.
— Возможно, — безнадежно попытался выгородить Мэри Паркер, — она всего лишь сказала: «Наверное, капнуло с птицы» — или что-нибудь в этом духе.
— Маловероятно, — возразил лорд Питер, — чтобы кто-то, заполучив на одежду такую порцию человеческой крови, не понял, что это такое. Мэри, очевидно, угодила в лужу коленом. Пятно в поперечнике дюйма три-четыре.
Паркер угрюмо покачал головой.
— Дела обстояли так, — продолжал Питер. — В среду вечером все собрались, поужинали и отправились спать. Кроме Кэткарта, который выскочил из дома и не вернулся. Без десяти двенадцать егерь Хардро услышал выстрел, который, вероятно, прозвучал на той полянке, где — скажем так — произошел инцидент. Время совпадает с медицинским показанием — утверждением, что в четыре тридцать, когда производился осмотр трупа, Кэткарт был уже мертв часа три-четыре. Идем дальше. В три утра откуда-то появился Джерри и обнаружил тело. Именно тогда, когда он склонялся над трупом, из дома вышла Мэри: в пальто, кепи и прогулочных сапогах.

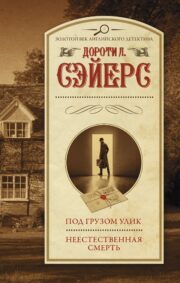

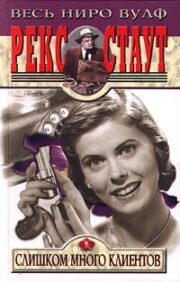


"Под грузом улик" отзывы
Отзывы читателей о книге "Под грузом улик", автор: Дороти Л. Сэйерс. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Под грузом улик" друзьям в соцсетях.