Айвивуд сухо, неумело улыбнулся.
– Пророк наделен простотой, свойственной гениям, – сказал он. – Не буду спорить, некоторые его доводы грубы и даже фантастичны. Но он прав в самом главном. Есть свобода в том, чтобы не идти наперекор природе, и на Востоке это знают лучше, чем на Западе. Понимаете, Джоан, все эти толки о любви в нашем узком, романтическом смысле, очень хороши, но есть любовь, которая выше влюбленности.
– Что же это? – спросила Джоан, глядя на траву.
– Любовь к судьбе, – сказал лорд Айвивуд, и в глазах его сверкнула какая-то холодная страсть. – Разве Ницще не учит нас, что услаждение судьбой – знак героя[96]? Мы ошибемся, если сочтем, что герои и святые ислама говорили «кисмет»[97], в скорби склонив голову. Они говорят «кисмет» в радости. Это слово значит для них «то, что нам подобает». В арабских сказках совершеннейший царевич женится на совершеннейшей царевне, ибо они подходят друг другу. В себялюбивых и чувствительных романах прекрасная принцесса может убежать с пошлым учителем рисования. Это – не судьба. Турок завоевывает царства, чтобы добиться руки лучшей из цариц, и не стыдится своей славы.
Лиловые облака по краю серебряного неба все больше напоминали Джоан лиловый орнамент серебряных занавесей в анфиладе Айвивудова дома. Павлины стали прекрасней, чем прежде; но она ощутила впервые, что они – с Востока.
– Джоан, – сказал Филип Айвивуд, и голос его мягко прозвучал в светлых сумерках, – я не стыжусь своей славы. Я не вижу смысла в том, что христиане зовут смирением. Если я смогу, я стану величайшим человеком мира; и думаю, что смогу. То, что выше любви – сама судьба, – велит мне жениться на самой прекрасной в мире женщине. Она стоит среди павлинов, но она красивее и величавее их.
Смятенный ее взор глядел на лиловый горизонт, дрогнувшие губы могли проговорить лишь: «Не надо…»
– Джоан, – продолжал Филип, – я сказал вам, что о такой, как вы, мечтали великие герои. Разрешите же теперь сказать и то, чего я не сказал бы никому, не говоря тем самым о любви и обручении. Когда мне было двадцать лет, я учился в немецком городе и, как выражаются здесь, на Западе, влюбился. Она была рыбачкой, ибо город лежал у моря. Там могла кончиться моя судьба. С такой женой я не стал бы дипломатом, но тогда это не было мне важно. Несколько позже, странствуя по Фландрии, я попал туда, где Рейн особенно широк, и подумал, что по сей день страдал бы, ловя рыбу. Я подумал, сколько дивных извивов оставила река позади. Быть может, юность ее прошла в горах Швейцарии или в поросших цветами низинах Германии. Но она стремилась к совершенству моря, в котором свершается судьба реки.
Джоан снова не смогла ответить, и Филип продолжал:
– И еще об одном нельзя сказать, если принц не предлагает руку принцессе. Быть может, на Востоке зашли слишком далеко, обручая маленьких детей. Но оглядитесь, и вы увидите, сколько бездумных юношеских браков приносит людям беду. Спросите себя, не лучше ли детские браки. В газетах пишут о бессердечии браков династических; но мы с вами газетам не верим. Мы знаем, что в Англии нет короля с тех пор, как голова его упала перед Уайтхоллом[98]. Страной правим мы и такие, как мы, и браки наши – династические. Пускай мещане зовут их бессердечными; для них нужно мужество, знак аристократа. Джон, – очень мягко сказал он, – быть может, и вы побывали в Швейцарских горах или на поросшей цветами низине. Быть может, и вы знали… рыбачку. Но существует то, что и проще, и больше этого; то, о чем мы читали в великих сказаниях Востока, – прекрасная женщина, герой и судьба.
– Милорд, – сказала Джоан, инстинктивно употребляя ритуальную фразу, – разрешите ли вы мне подумать? И не обидитесь ли, если решение мое будет не таким, как вы хотите?
– Ну, конечно, – сказал Айвивуд, и учтиво поклонился, и с трудом пошел прочь, пугая павлинов.
Несколько дней подряд Джоан пыталась заложить фундамент своей земной судьбы. Она была еще молода; но ей казалось, что она прожила тысячи лет, думая об этом. Снова и снова она говорила себе, что лучшие женщины, чем она, принимали с горя и менее завидную участь. Но в самой атмосфере было что-то странное. Она любила слушать Айвивуда, как любят слушать скрипача; но в том и беда, что порою не знаешь, человек тебе нужен или его скрипка.
Кроме того, в доме вели себя странно, осооенно потому, что Айвивуд еще не оправился; и это ее раздражало. В этом было величие, была и скука. Как многим умным дамам высшего света, Джоан захотелось посоветоваться с разумной, не светской женщиной; и она бросилась за утешением к разумной секретарше.
Но рыженькая мисс Браунинг с бледным, серьезным лицом взяла ту же ноту. Лорд Айвивуд был каким-то божеством, перводвигателем, властелином. Она называла его: «он». Когда она сказала «он» в пятый раз, Джоан почему-то ощутила запах оранжереи.
– Понимаете, – сказала мисс Браунинг, – мы не должны мешать его славе, вот что главное. Чем послушней мы будем, тем лучше. Я уверена, что он лелеет великие замыслы. Слышали вы, что пророк говорил на днях?
– Мне он сказал, – отвечала темноволосая дама, – что мы сами говорим о неприятном долге: «Это мой крест», а не «это мой полумесяц».
Умная секретарша, конечно, улыбнулась, но темы своей не оставила.
– Пророк говорит, – сказала она, – что истинна лишь любовь к судьбе. Я уверена, что он с этим согласен. Люди кружат вокруг героя, как планеты вокруг звезды, ибо звезда их притягивает. Когда судьба коснется вас, вы не ошибетесь. У нас на многое смотрят неправильно. Например, часто ругают детские браки в Индии…
– Мисс Браунинг, – сказала Джоан, – неужели вас интересуют эти браки?
– Понимаете… – начала мисс Браунинг.
– Интересуют они вашу сестру? – вскричала Джоан. – Пойду спрошу ее! – И она побежала туда, где трудилась миссис Макинтош.
– Видите ли, – сказала миссис Макинтош, поднимая пышноволосую, гордую головку, которая была красивее, чем головка ее сестры, – я верю, что индусы избрали лучший путь. Когда людей предоставляют в юности собственной воле, они могут избрать любого. Они могут избрать негра или рыбачку, или… скажем, преступника.
– Миссис Макинтош, – сердито сказала Джоан, – вы прекрасно знаете, что не женились бы на рыбачке. Где Энид? – внезапно закончила она.
– Леди Энид, – сказала миссис Макинтош, – разбирает ноты в музыкальной зале.
Джоан пробежала несколько гостиных и нашла за роялем свою бледную белокурую родственницу.
– Энид! – вскричала Джоан. – Ты знаешь, что я всегда тебя любила. Ради всего святого, скажи мне, что творится с этим домом! Я восхищаюсь Филипом, как все. Но что такое с домом? Почему эти комнаты и сады словно держат меня взаперти? Почему все похожи? Почему все повторяют одни и те же слова? Господи, я редко философствую, но тут что-то есть! Тут есть какая-то цель, да, именно цель. И я ее не вижу.
Леди Энид сыграла вступление. Потом сказала:
– И я не вижу, Джоан, поверь мне. Я знаю, о чем ты говоришь. Но я верю ему и доверяюсь именно потому, что у него есть цель. – Она начала наигрывать немецкую балладу. – Представь себе, что ты глядишь на широкий Рейн там, где он впадает…
– Энид! – воскликнула Джоан. – Если ты скажешь: «в Северное море», я закричу. Я перекричу всех павлинов!
– Но позволь, – удивленно взглянула на нее леди Энид, – Рейн и впрямь впадает в Северное море.
– Хорошо, пусть, – дерзко сказала Джоан. – Но он впадет в пруд прежде, чем ты поймешь… прежде, чем…
– Да? – спросила Энид, и музыка прекратилась.
– Прежде, чем случится что-то… – отвечала Джоан, уходя.
– Что с тобой? – сказала Энид Уимпол. – Если это тебя раздражает, сыграю что-нибудь другое. – И она полистала ноты.
Джоан ушла туда, где сидели секретарши, и беспокойно уселась сама.
– Ну, как, – спросила рыжая и незлобивая миссис Макинтош, не поднимая глаз от работы, – узнали вы что-нибудь?
Джоан мрачно задумалась; потом сказала просто и мягко, что не вязалось с ее нахмуренным лбом:
– Нет… Вернее, узнала, но только про самое себя. Я открыла, что люблю героев, но не люблю, когда им поклоняются.
– Одно вытекает из другого, – назидательно сказала мисс Браунинг.
– Надеюсь, что нет, – сказала Джоан.
– Что еще можно сделать с героем, – спросила миссис Макинтош, – как не поклониться ему?
– Его можно распять, – сказала Джоан, к которой внезапно вернулось дерзкое беспокойство, и встала с кресла.
– Может быть, вы устали? – спросила девица с умным лицом.
– Да, – сказала Джоан. – И что особенно тяжко, даже не знаю, от чего. Честно говоря, я устала от этого дома.
– Конечно, дом этот очень стар, а местами пока что мрачен, – сказала мисс Браунинг, – но он изумительно его преображает. Звезды и луна в том крыле поистине…
Из дальней комнаты снова донеслись звуки рояля. Услышав их, Джоан Брет вскочила, как тигрица.
– Спасибо, – сказала она с угрожающей кротостью. – Вот оно! Вот кто мы такие! Она нашла нужную мелодию.
– Какую же? – удивилась секретарша.
– Так будут играть арфы, кимвалы, десятиструнная псалтирь, – яростно и тихо сказала Джоан, – когда мы поклонимся золотому идолу, поставленному Навуходоносором[99]. Девушки! Женщины! Вы знаете, где мы? Вы знаете, почему здесь двери за дверьми и решетки за решетками, и столько занавесей, и подушек, и цветы пахнут сильнее, чем цветы наших холмов?
Из дальней, темнеющей залы донесся высокий чистый голос Энид Уимпол:
Мы пыль под твоей колесницей,
Мы ржавчина шпаги твоей. [*]
– Вы знаете, кто мы? – спросила Джоан Брет. – Мы – гарем.
– Что вы! – в большом волнении вскричала младшая из сестер. – Лорд Айвивуд никогда…
– Конечно, – сказала Джоан. – До сих пор. В будущем я не так уверена. Я никак его не пойму, и никто не поймет его, но, поверьте, здесь такой дух. Комната дышит многоженством, как запахом этих лилий.
– Джоан! – вскричала леди Энид, входя взволнованно и тихо, как воспитанный призрак. – Ты совсем бледная.




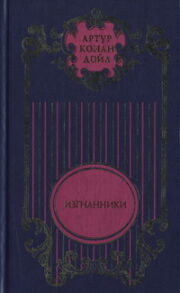

"Перелетный кабак" отзывы
Отзывы читателей о книге "Перелетный кабак", автор: Гилберт Кийт Честертон. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Перелетный кабак" друзьям в соцсетях.