Я слышал, Гай из Уорика, [*]
Тот, что смирил Быка
И Вепря дикого свалил
Ударом кулака, –
Однажды Змея в тыщу миль
Прикончил на досуге:
И корчился сраженный Гад –
Туда-сюда, вперед-назад –
С тех пор и вьются, говорят,
Дороги все в округе…
Я б мог побиться об заклад,
Что дело здесь не в том,
А перекручены пути,
Чтоб нас с тобой, как ни крути,
В чудесный город привести –
В веселый Кругвертон!
Я слышал, Робин-Весельчак,
Резвящийся в лесах
(Хозяин фразы-Вальтер Скотт,
Но он на небесах), –
Так вот, лукавый дух ночной
Подстраивает шутки:
Влюбленных водит под луной
Дорогой путаной, кружной…
Но нет, не властны надо мной
Такие предрассудки!
А в Кругвертоне – рай земной,
Порядок и закон;
И вьются, кружатся пути,
Мечтая (Теннисон, прости!)
Всех праведников привести
В счастливый Кругвертон!
Я слышал, Мерлин-чародей
Пустил дороги вкось,
Чтоб славным рыцарям
Грааль Найти не удалось:
Чтоб вечно путь их вел назад,
К родному Камелоту…
Но в «Дейли Мейл» вам объяснят,
Что это ненаучный взгляд,
И скажет всякий демократ:
В нем смысла-ни на йоту.
А в Кругвертоне – мир да лад.
И нет сомненья в том,
Что тысячи кривых дорог,
Спеша на запад и восток,
Заветный ищут уголок –
Тот самый Кругвертон!
Патрик Дэлрой облегчил душу, взревев напоследок, выпил стакан моряцкого вина, беспокойно заерзал на локте и поглядел вверх пейзажа, туда, где лежал Лондон.
Дориан Уимпол пил золотой ром, и звездный свет, и запах лесов. Хотя стихи у него тоже были веселые, он прочитал их серьезнее, чем думал:
Когда еще латинский меч наш край не покорил, [*]
Дорогу первую в стране пьянчуга проторил:
Вовсю кружил он и петлял, разгорячен пирушкой,
А вслед помещик поспешал и пастор с верным служкой…
Таким блажным, кружным путем и мы, не помню с кем,
Вдоль побережья наобум шагали в Бирмингем.
Мне Бонапарт не делал зла; помещик – тот был зол!
И все-таки с французом сражаться я пошел,
Чтоб не посмел никто спрямить – на севере ль, на юге –
Дорогу нашу, славный путь английского пьянчуги.
Тот вольный путь, окольный путь, которым – вот так вид! –
Мы шли под мухой в Ливерпуль по мосту через Твид.
Да, пьянство – грех, но был прощен тот первый сумасброд,
Недаром по его следам боярышник цветет.
Он песни дикие орал, он ночь проспал в кювете,
Но роза дикая над ним склонилась на рассвете…
Да будет Бог и к нам не строг, хоть шаг наш был нетверд,
Когда из Дувра через Гулль брели мы в Девонпорт.
Прогулки эти нам, друзья, уж больше не к лицу:
Негоже старцу повторять, что с рук сошло юнцу.
Но ясен взгляд, и на закат еще ведет дорога,
В тот кабачок, где тетка Смерть кивает нам с порога;
И есть о чем потолковать, и есть на что взглянуть –
Покуда приведет нас в рай окольный этот путь.
– А ты уже кончил, Хэмп? – спросил Дэлрой кабатчика, который старательно писал при свете фонаря.
– Да, – отвечал тот. – Но мне хуже, чем вам. Понимаешь, я знаю, почему дорога вьется. – И он стал читать на одной ноте:
Сперва налево гнется путь,
Каменоломню обогнуть,
Потом бежит дугой, дугой
Направо от собаки злой,
Потом налево-просто так,
Чтоб в мокрый не попасть овраг,
И вновь направо, потому
Что обогнуть пришлось ему
И обойти издалека
Поместье одного князька,
От смерти коего идет
Уже семьсот десятый год.
И снова влево – от могил,
Где дух священника бродил,
Пока не встретили его
Мертвецки пьяным в Калао.
И вновь направо поворот,
Чтоб нам не миновать ворот
«Короны и ведра» – кабак
Сей несомненно знает всяк.
Опять налево-справа жил
Сэр Грегори, и разрешил,
Рассудку не желая внять,
Цыганам табор основать.
Они бедны, но не честны,
И обойти мы их должны.
И вновь направо – от болот,
Где ведьмы позапрошлый год,
На полисмена налетев,
Избили, догола раздев,
О бедный, бедный полисмен!
И влево, мимо Тоби-лен,
И вправо, мимо той сосны,
Откуда столб и лес видны,
А в том лесу, в тени ветвей,
Дорога лучше и прямей.
Как доктор Лав мне рассказал
(Он вашу тетушку знавал,
Дражайший Уимпол. Много книг
На наш он перевел язык,
И сам ученый град Оксфорд
Его твореньями был горд),
Как доктор Лав мне говорил,
Сквозь лес дорогу проложил
Строитель-римлянин – и вот
Она прямее здесь идет.
Но кончен лес, и снова путь
Спешит налево завернуть
От рощи, где в глухую ночь
Помещичью однажды дочь
Чуть не повесили. Она
Лишь тем осталась спасена,
Что жаль веревки стало им,
Ночным разбойникам лихим.
И вновь направо вьется путь,
Чтоб рощу вязов обогнуть,
И вновь налево… [*]
– Нет! Нет! Нет! Хэмп! Хэмп! Хэмп! – в ужасе заорал Дэлрой. – Остановись! Не будь ученым, Хэмп, оставь место сказке. Сколько там еще, много?
– Да, – сурово отвечал Пэмп. – Немало.
– И все правда? – с интересом спросил Дориан Уимпол.
– Да, – улыбнулся Пэмп, – все правда.
– Как жаль, – сказал капитан. – Нам нужны легенды. Нам нужна ложь, особенно в этот час, когда мы пьем такой ром на нашем первом и последнем пиру. Вы любите ром? -спросил он Дориана.
– Этот ром, на этом дереве, в этот час, – отвечал Уимпол, – просто нектар, который пьют вечно юные боги. А вообще… вообще не очень люблю.
– Наверное, он для вас сладок, – печально сказал Дэлрой. – Сибарит! Кстати, -прибавил он, – какое глупое слово «сладострастие»! Распутные люди любят острое, а не сладкое, икру, соуса и прочее. Сладкое любят святые. Во всяком случае, я знаю пять совершенно святых женщин, и они пьют сладкое шампанское. Хотите, Уимпол, я расскажу вам легенду о происхождении рома? Запомните ее и расскажите детям, потому что мои родители, как на беду, забыли рассказать ее мне. После слов: «у крестьянина было три сына» предание, собственно, кончается. Когда эти сыновья прощались на рыночной площади, они сосали леденцы. Один остался у отца, дожидаясь наследства. Другой отправился в Лондон за счастьем, как ездят за счастьем и теперь в этот Богом забытый город. Третий уплыл в море. Двое первых стыдились леденцов и больше их не сосали. Первый пил все худшее пиво, он жалел денег. Второй пил все лучшие вина, чтобы похвастаться богатством. Но тот, кто уплыл в море, не выплюнул леденца. И апостол Петр или апостол Андрей[90], или кто там покровитель моряков, коснулся леденца и превратил его в напиток, ободряющий человека на корабле. Так считают матросы. Если вы обратитесь к капитану, грузящему корабль, он это подтвердит.
– Ваш ром, – благодушно сказал Дориан, – может родить сказку. Но здесь – как в сказке и без него.
Патрик встал с древесного трона и прислонился к ветви. Глядел он так, словно ему бросили вызов.
– Ваши стихи хорошие, – с показной небрежностью сказал он, – а мои плохие. Они плохие, потому что я не поэт, но еще и потому, что я сочинял тогда другие стихи, другим размером.
Он оглядел кудрявый путь и прочитал как бы для себя:
В городе, огороженном непроходимой тьмой,
Спрашивают в парламенте, кто собрался домой.
Никто не отвечает, дом не по пути,
Да все перемерли, и домой некому идти.
Но люди еще проснутся, они искупят вину,
Ибо жалеет наш Господь свою больную страну.
Умерший и воскресший, хочешь домой?
Душу свою вознесший, хочешь домой?
Ноги изранишь, силы истратишь, сердце разобьешь
И тело твое будет в крови, когда до дома дойдешь.
Но голос зовет сквозь годы: «Кто еще хочет свободы?
Кто еще хочет победы? Идите домой!» [*]
Как ни мягко и ни лениво он говорил, поза его и движения удивили бы того, кто его мало знал.
– Разрешите спросить, – сказал, смеясь, Дориан, – почему вы сейчас вынули из ножен шпагу?
– Потому что мы долго кружили, – отвечал Патрик, – а теперь пришло время сделать крутой поворот.
Он указал шпагой на Лондон, и серый отблеск рассвета сверкнул на узком лезвии.
Глава 22
СНАДОБЬЯ МИСТЕРА КРУКА
Когда небезызвестный Гиббс посетил в следующий раз мистера Крука, столь сведущего в мистике и криминологии, он увидел, что аптека его удивительно разрослась и расцветилась восточным орнаментом. Мы не преувеличим, если скажем, что она занимала теперь все дома по одной стороне фешенебельной улицы в Вест-Энде; на другой стороне стояли глухие общественные здания. По-видимому, мистер Крук был единственным торговцем довольно большого квартала. Однако он сам обслуживал клиентов и проворно отпустил журналисту его любимое снадобье. К несчастью, в этой аптеке история повторилась. После туманного, хотя и облегчающего душу разговора о купоросе и его воздействии на человеческое благоденствие, Гиббс с неудовольствием заметил, что в двери входит его ближайший друг, Джозеф Ливсон. Неудовольствие самого Ливсона помешало ему это заметить.
– Да, – сказал он, останавливаясь посреди аптеки. – Хорошенькие дела!
Одна из бед дипломата в том, что он не может выказать ни знания, ни неведения. Гиббс сделал мудрое и мрачное лицо, поджал губы и сказал:
– Вы имеете в виду общее положение?
– Я имею в виду эту чертову вывеску, – сердито сказал Ливсон. – Лорд Айвивуд поехал с больной ногой в парламент и провел поправку. Спиртные напитки нельзя продавать, если они с ведома полиции не пробыли в помещении трое суток.
Гиббс торжественно и мягко понизил голос, словно посвященный, и промолвил:





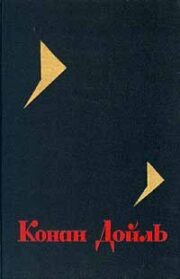
"Перелетный кабак" отзывы
Отзывы читателей о книге "Перелетный кабак", автор: Гилберт Кийт Честертон. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Перелетный кабак" друзьям в соцсетях.