– Мерзавец! – взревел Мидоус. – Я тебе не дорогой! Ты у меня попляшешь в суде!
– Это не деловой разговор, – рассудительно отвечал пивовар. – Вам убытка не будет. У меня один потребитель, у вас другой. Поговорим как делец с дельцом.
– Я не делец! – гневно вскричал ученый. – Я слуга человечества!
– Почему же, – спросил Дэлрой, – вы не слушаетесь вашего хозяина?
– Автомобиль переехал реку, – сказал Хэмфри Пэмп.
– Вы губите мои труды! – с искренней страстью воскликнул доктор. – Я построил эту деревню, я слежу за ее здоровьем, я встаю раньше всех, пекусь о людях, а вы все губите, чтобы продавать ваше гнусное пиво! И еще зовете меня дорогим! Я вам не друг!
– Дело ваше, – проворчал Хэгби. – Но если зашел разговор, вы же сами продаете…
Рядом остановился автомобиль, вздымая облако белой пыли, и шестеро запыленных мужчин вышли из него. Очки и куртки не скрыли от Пэмпа особую повадку полицейских. Единственным исключением был длинный, тощий человек, который, сняв шлем, оказался Дж. Ливсоном. Он подошел к невысокому старому миллионеру; тот сразу узнал его и пожал ему руку, и они посовещались, глядя в какие-то бумаги. Потом доктор Мидоус откашлялся и сказал толпе:
– Я рад сообщить, что эти нелепые планы запоздали. Лорд Айвивуд, со свойственной ему быстротой действий, передает во все важные места, в том числе – в это, необычайно справедливую поправку, которая как раз подходит к случаю.
– Мы будем ночевать в тюрьме, – сказал Хэмфри Пэмп. – Я это чуял.
– Достаточно того, – продолжал миллионер, – что теперь подлежит тюремному заключению всякий, кто продает спиртные напитки, не известив полицию за три дня. Вывеска ему не поможет.
– Я знал, что этим кончится, – пробормотал Пэмп. – Сдаемся, капитан, или попробуем убежать?
Даже наглость Дэлроя на мгновение утихла. Он растерянно смотрел в бездну неба, словно, подобно Шелли, ожидал вдохновения от чистых облаков и совершенных красок.
Наконец он мягко и задумчиво произнес одно слово:
– Продает!..
Пэмп зорко взглянул на него, и мрачное лицо его преобразилось. Но доктор был слишком упоен победой и ничего не понял.
– Да, именно продает, – повторил он, размахивая синим, длинным листком парламентского акта. – Точные слова.
– В данном случае они не точны, – вежливо и равнодушно сказал капитан Дэлрой. – Я ничего не продавал, я раздавал. Платил мне кто-нибудь? Видел кто-нибудь, чтобы другие платили? Я – филантроп, как доктор Мидоус. Я его образ и подобие.
Мистер Ливсон и доктор Мидоус посмотрели друг на друга. Первый был растерян, ко второму вернулись прежние страхи.
– Я останусь здесь на несколько недель, – продолжал капитан, изящно облокотившись о жестянку, – и буду раздавать даром мой дивный напиток всем желающим. Насколько я понял, таких напитков здесь нет. Я уверен, что никто не воспротивится столь законным и высоконравственным действиям.
Тут он ошибся, ибо кое-кто воспротивился. То был не одержимый филантроп, и даже не темноволосый секретарь, выражавший протест молчаливо. Новый вид благотворительности особенно рассердил бывшего пивовара. Крыжовенные глаза чуть не вылезли из орбит, и слова сорвались с уст раньше, чем он подумал, стоит ли их произносить:
– Клоун проклятый! Так я и дам загубить мое дело…
Старый Мидоус обернулся к нему проворно, как змея.
– Какое же у вас дело, мистер Хэгби? – спросил он.
Пивовар задохнулся и чуть не лопнул от злости. Козлы смотрели в землю, как и подобает, по мнению римского поэта, низшим животным. Человек, то есть Патрик Дэлрой, если вольно продолжить цитату, смотрел в родные небеса.
– Я одно скажу, – прорычал Хэгби. – Раз уж полиция не может забрать двух грязных оборванцев, значит – конец. Какого черта я плачу налог…
– Да, – сказал Дэлрой, и голос его опустился, как топор. – Теперь вам конец, слава Богу. Это из-за таких, как вы, от кабаков разило отравой, и даже порядочные люди перестали туда ходить. Вы хуже трезвенника, ибо вы искалечили то, чего он не знает. Что же до вас, великий ученый и филантроп, идеалист и гонитель кабаков, разрешите сообщить вам один научный факт. Вас не уважают. Вас боятся. С чего бы мне и им уважать вас? Да, вы построили это селенье и встаете рано. Стоит ли уважать вас за разборчивость в пище и за то, что ваш бедный старый желудок долговечней, чем сердца хороших людей? Вам ли быть божеством этой долины, если бог ваш – чрево, и вы даже не любите, а боитесь его? Идите, помолитесь ибо все мы умрем. Почитайте Писание, как читали в своем немецком доме, когда и вы искали там истины, а не ошибок. Боюсь, сам я нечасто его читаю, но кое-что помню в добром старом переводе Маллигена и этими словами напутствую вас. «Если Господь не созиждет дома, – и он так широко и так естественно взмахнул рукой, что деревья стали на мгновение пестрой картонной игрушкой у ног великана, – если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж»[85]. Попробуйте понять, что это значит, забыв об ученых спорах. А нам с тобою, Хэмп, пора ехать. Я устал от зеленой черепицы. Эй, лейте полней! – И он швырнул бочонок на сиденье. – Эй, лейте полней, наливайте полней! – И он швырнул жестянку.
Сзывайте людей и седлайте коней! [*]
А парнокопытных да сгложет тоска
Без горного, без моего молока!
Песня эта замерла вдали вместе с Дэлроем и мотором. Путники были вне преследования, когда решили отдохнуть. Здесь еще текла прекрасная река; и Патрик попросил остановиться у пышного папоротника, нарядных берез и сверкающей воды.
– Я одного не понял, – сказал Хэмфри Пэмп. – Почему он так испугался химика? Какой яд он подмешивает?
– H2О, – ответил капитан. – Я больше люблю его без молока.
И он наклонился к реке, как наклонялся на рассвете.
Глава 20
ТУРОК И ФУТУРИСТЫ
Мистер Адриан Крук был преуспевающим аптекарем, и аптека его находилась в фешенебельном квартале, но лицо выражало больше того, чего ожидают от преуспевающего аптекаря. Лицо было странное, не по возрасту древнее, похожее на пергамент, и при всем этом умное, тонкое, решительное. Умной была и речь, когда он нарушал молчание, ибо он много повидал и много мог порассказать о странных и даже страшных секретах своего ремесла, так что собеседник видел, как курятся восточные зелья, и узнавал состав ядов, которые приготовляли аптекари Возрождения. Нечего и говорить, что сам он пользовался прекрасной репутацией, иначе к его услугам не прибегали бы такие почтенные и знатные семьи; но ему нравилось погружаться мыслью в те дни и страны, где фармакопея граничит с магией, если не с преступлением. Поэтому случалось, что люди, убежденные в его невинности и пользе, уходили от него в туман и тьму, наслушавшись рассказов о гашише и отравленных розах, и никак не могли побороть ощущения, что алые и желтые шары, мерцающие в окнах аптеки, наполнены кровью и серой, а в ней самой пахнет колдовством.
Без сомнения, ради таких бесед и зашел к нему мистер Гиббс, если не считать скляночки подкрепляющего снадобья. Ливсон увидел друга в окно, а тот немало удивился, даже растерялся, когда темноволосый секретарь вошел и тоже спросил скляночку, хотя он и впрямь глядел устало и нуждался в подкреплении.
– Вас не было в городе? – спросил Ливсон. – Да, нам не везет. Опять то же самое, ушли. Полиция не решилась схватить их. Даже старик Мидоус испугался, что это незаконно. Надоело, честное слово! Куда вы идете?
– Собираюсь зайти на выставку постфутуристов, – сказал Гиббс. – Там должен быть лорд Айвивуд, он показывает картины пророку. Я не считаю себя знатоком, но слышал, что они удачны.
Оба помолчали, потом Ливсон сказал:
– Новое всегда ругают.
Они помолчали еще, и высказался Гиббс:
– В конце концов, ругали даже Уистлера[86].
Ободренный ритуалом, Ливсон вспомнил про аптекаря и резво спросил:
– Наверное, и у вас то же самое? Ваших великих коллег не понимали в свое время?
– Возьмите хотя бы Борджиа[87], – сказал Крук. – Их терпеть не могли.
– Вы все шутите, – обиделся Ливсон. – Что ж, до свиданья. Идете, Гиббс?
И оба, в цилиндрах и во фраках, направились дальше по улице. Сияло солнце, как сияло оно вчера над белой обителью миролюбия, и было приятно идти вдоль красивых домов и мимо тонких деревьев, глядящихся в реку. Картины нашли пристанище в маленькой, но знаменитой галерее, а галерея располагалась в довольно причудливом здании, откуда спускались ступени к самой Темзе. По сторонам пестрели клумбы, а наверху, перед византийским входом, стоял небезызвестный Мисисра в пышных одеждах и широко улыбался. Но даже этот восточный цветок не ободрил печального Ливсона.
– Вы пришли посмотреть декорации? – спросил сияющий пророк. – Они хороши. Я их одобрил.
– Мы пришли посмотреть картины постфутуристов, – начал Гиббс; но Ливсон молчал.
– Здесь нет картин, – просто сказал турок. – Я бы их не одобрил. Картина – идол, друзья мои. Смотрите. – И он, обернувшись, торжественно указал куда-то вглубь. – Смотрите, там нет картин. Я все разглядел и все принял. Ни одного человека. Ни одного зверя. Никакого вреда; декорации красивы, как лучшие ковры. Лорд Айвивуд очень рад, ибо я сказал ему, что ислам про-грес-сирует. Раньше у нас разрешали изображать растения. Я их искал. Здесь их нет.
Гиббс, тактичный по профессии, счел неудобным, чтобы прославленный Мисисра вещал с высоких ступеней улице и реке, и вежливо предложил пройти в залы. Пророк и секретарь последовали за ним и попали в первый зал, где находился Айвивуд. Он был единственной статуей, которой разрешали поклоняться новые мусульмане.
На софе, подобной пурпурному острову, сидела леди Энид и оживленно беседовала с Дорианом, стараясь предотвратить семейную ссору, неизбежную после случая в парламенте. По следующей зале бродила леди Джоан Брет. Мы не вправе сказать, что она смиренно или пытливо вглядывалась в картины, но, дабы не обижать всуе постфутуристов, сообщим, что ее точно так же утомлял пол, по которому она ступала, и зонтик, который она держала в руке. И сзади, и спереди, и сбоку медленно плыли люди ее круга. Это очень маленький круг, но он достаточно велик и достаточно мал, чтобы править страной, утратившей веру. Он суетен, как толпа, и замкнут, как тайное общество.



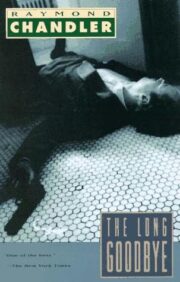

"Перелетный кабак" отзывы
Отзывы читателей о книге "Перелетный кабак", автор: Гилберт Кийт Честертон. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Перелетный кабак" друзьям в соцсетях.