— Так это и есть проект Б.?
— Ну, подробности он мне, конечно, не рассказывал. Но он загорелся этой идеей и сказал, что в этом что-то есть и что я никогда дурного не посоветую. Вот. Ну и на самом деле, что хорошего во всех этих ужасных изобретениях, которые уничтожают людей? Зачем причинять людям страдания? Пусть уж лучше смеются. Да, про веселящий газ я, помнится, тоже ему говорила. «Когда кому-нибудь надо вырвать зуб, говорю, ему дают три раза вдохнуть этот газ, и он начинает смеяться. Неужели, говорю, вы не можете изобрести что-нибудь похожее, но только чтобы действовало подольше?» Ведь веселящий газ, если не ошибаюсь, действует что-то около пятидесяти секунд? Помню, как моему брату удаляли зуб. Врачебное кресло стояло у самого окна, а мой брат так хохотал, — он был, конечно, в полусне, — что нечаянно разбил стекло и дантист ужасно обиделся.
— Вы всегда все приправляете какими-то странными историями, — сказал адмирал. — Однако я, кажется, понял, чем Роберт Шорхэм решил, с вашей подачи, заняться.
— Но я не могу точно сказать, что именно он в конечном итоге изобрел. То есть вряд ли это было именно какое-то снотворное или… смехотворное. И название было какое-то другое. Но как-то оно действовало.
— Какое название?
— Он упоминал пару раз. Название проекта. Что-то вроде порошка Больфо[204], — сказала тетушка Матильда, судорожно роясь в своей памяти.
— Это вроде бы порошок от блох?
— Не думаю, чтобы это имело отношение к блохам. Мне кажется, это было что-то, что надо было нюхать — а может, название какой-то железы… Понимаете, мы говорили с ним сразу про несколько вещей, и мне трудно было заметить, где кончается одна тема и начинается другая. Больфо… Нет, Бен… Да, оно начиналось на «Бен». И это было связано с каким-то очень приятным словом.
— И это все, что вы помните?
— Ну да. Понимаете, мы об этом говорили только один раз, а потом — много времени спустя — он сказал мне, что это я подала ему идею проекта Бен, или как он там назывался… А потом, когда мне случалось вспомнить об этом и я его спрашивала, как подвигается работа, он ужасно сердился и говорил, что все дело застопорилось и он больше не будет им заниматься, а затем принимался сыпать какими-то головоломными названиями, которых я, естественно, уже не помню, а если бы и помнила, вы все равно бы ничего не поняли. Но в конце концов — боже га мой, это было целых восемь или девять лет назад — он пришел ко мне и сказал: «Помните проект Бен?», а я ему: «Как же, прекрасно помню! Вы все еще над ним работаете?» И он сказал, что нет, что он решительно от него отказался. Я сказала, что мне очень жаль. А он вдруг говорит: «Понимаете, дело не в том, что я не могу добиться результата. Я знаю, что этого можно добиться. Я знаю, где я ошибся, в чем загвоздка. И даже знаю, как с этим справиться. Да, проект вполне осуществим. Потребуется серия экспериментов, но в целом результат уже налицо». — «Так что же вас беспокоит?» — говорю я ему. Он отвечает: «А то, что я себе не представляю, как все это потом обернется для людей». Я подумала, что он боится побочных эффектов, что люди станут инвалидами, а для кого-то оно вообще окажется смертельным… «Нет, — сказал он, — не в этом дело». Он сказал, что… О, вспомнила! Наконец-то я вспомнила! «Проект Бенво»! Вот как он его называл. Да. Потому что он имел касательство к благоволению, от латинского ben-valence.
— Благоволение! — воскликнул адмирал, удивленный до крайности. — Вы хотите сказать — благотворительность?
— Нет-нет. По-моему, он просто хотел вызвать у людей добрые чувства. Благожелательность.
— «На земле мир, и в человеках благоволение»?[205]
— Ну, это не совсем по Евангелию.
— Да, с этим пусть разбираются богословы. Их послушать, так стоит только сделать, как сказано в Библии, и на земле настанет тишь, гладь да божья благодать. Но, насколько я понял, Робби проповедями не занимался. Он собирался добиться того же результата чисто физическими средствами — у себя в лаборатории.
— Да, конечно. И еще он сказал, что никогда не знаешь, принесет твое открытие пользу человечеству или совсем наоборот. Что любое лекарство таит в себе опасность. И тут он начал говорить… Да, о пенициллине и сульфаниламидах, о пересадке сердца и противозачаточных таблетках — хотя тогда у нас еще и не было пресловутой «Пилюли». И ведь действительно, все это на первый взгляд совершенно безобидно, и все кричат, что это чудодейственное лекарство, а потом вдруг обнаруживается, что оно кому-то здорово навредило, и вы зарекаетесь брать в рот эти таблетки и клянете всех изобретателей. Я спросила: «Вы боитесь идти на риск?», а он ответил: «Вы совершенно правы. Я не хочу рисковать. Но в том-то и беда, что я понятия не имею, чего именно мне следует опасаться. Это вечная проблема для ученых. Открытие само по себе не опасно. Весь вопрос в том, что сделают с ним люди, к которым оно попадет в руки. Вот тут мы действительно рискуем стать причиной всяческих трагедий». А я ему на это: «Ну вот, опять вы о ядерном оружий да об атомных бомбах», а он говорит: «К черту ядерное оружие и атомные бомбы! У нас уже есть кое-что посерьезнее».
«Но вы же хотите сделать людей добродушными и благожелательными — о чем тут беспокоиться?» — говорю. А он мне в ответ: «Ничего вы не понимаете, Матильда. Вам этого никогда не понять. Скорее всего, мои коллеги тоже этого не поймут. А политиканы тем более. Так что сами видите — риск слишком велик. По крайней мере, сначала я должен все хорошенько обдумать».
«Но, — говорю я, — вы же можете регулировать действие этого вещества, как при использовании веселящего газа — разве не так? То есть можете сделать людей добродушными на какое-то время, а потом опять все исправить — или испортить — это уж как посмотреть». А он говорит: «Нет. Видите ли, его действие будет постоянным. Необратимым, потому что оно воздействует на…» — и опять перешел на длиннющие слова и цифры. Но, по-моему, имелось в виду, что какие-то изменения происходят аж на молекулярном уровне. Мне кажется, сейчас нечто подобное — только хирургическим путем — делают с кретинами. Ну, чтобы они поумнели. Просто берут и вырезают у них щитовидку или другую какую-то железу… Только вот, если проделать это с нормальным человеком, он навсегда останется…
— Благодушным? Вы уверены, что он употребил именно это слово, bene-volence?
— Ну конечно. Поэтому он и назвал проект Бенво.
— Интересно, а как отнеслись к его отступничеству другие ученые?
— Не думаю, чтобы многие знали о проекте. Лиза — не помню, как фамилия, знаю только, что она родом из Австрии, — точно над ним работала. Потом еще был молодой человек — кажется, Лиденталь или что-то похожее, — но он умер от туберкулеза. Но, мне кажется, они были только ассистентами и даже не знали, над чем работают и что должно получиться в итоге. Я понимаю, что вы хотите узнать, — вдруг сказала Матильда. — Нет, я не думаю, что он вообще кому-то об этом говорил. Он даже уничтожил все свои записи, абсолютно все, и полностью отрекся от этой затеи. А потом этот удар, и теперь он, бедняжка, даже и говорить внятно не может. У него одна сторона парализована. А слышит он хорошо. Музыку любит. Теперь в этом вся его жизнь.
— Вы полагаете, что к своей работе он уже не вернется?
— Он даже друзей видеть не хочет. Видимо, это для него мучительно. Он всегда отказывается, под любым предлогом.
— Но он жив, — сказал адмирал Блант. — Он еще жив. Адрес у вас есть?
— Где-то в записной книжке. Живет все там же. На севере Шотландии. Только — пожалуйста, поймите — это когда-то он был незаурядным человеком. Теперь все в прошлом. Сейчас он просто живой труп. Ему уже ни до чего нет дела.
— Надежда умирает последней, — сказал адмирал Блант. — Нам остается вера, — добавил он. — Вера.
— И любовь к людям, я думаю, — сказала леди Матильда.
Глава 9
Проект Бенво
Профессор Джон Готтлиб не сводил глаз с красивой молодой женщины, сидевшей в кресле напротив. Он привычно почесал ухо и сразу стал удивительно похож на обезьяну. Лицо, скорее напоминавшее вытянутую обезьянью мордочку, совершенно не сочеталось с высоким лбом математика. Тело его было сухим и тщедушным.
— Не каждый день, — сказал профессор Готтлиб, — молодая дама приносит мне письмо от президента Соединенных Штатов. Однако, — добавил он жизнерадостно, — президенты не всегда отдают себе отчет в том, что они делают. Так о чем речь? Насколько я понял, вы тут по поручению самых высоких властей.
— Мне поручено спросить вас о том, что вы знаете или что можете рассказать о так называемом «проекте Бенво».
— А вы настоящая графиня?
— Формально — настоящая. Но меня больше знают как Мэри Энн.
— Да, так в сопроводительном письме и написано. Так вас интересует «проект Бенво»? Что ж, такой проект существовал. Но он давно похоронен и забыт, как, впрочем, и его автор.
— Вы говорите о профессоре Шорхэме?
— Совершенно верно. Роберт Шорхэм. Один из выдающихся умов нашего века. Под стать Эйнштейну[206], Нильсу Бору[207] и прочим гениям. Но Роберт Шорхэм сошел со сцены раньше, чем можно было ожидать. Невосполнимая потеря для науки. Как это Шекспир говорит о леди Макбет? «Ей после умереть пристало б»[208].
— Он еще жив, — сказала Мэри Энн.
— Неужели? Вы в этом уверены? О нем так давно ничего не слышно…
— Он тяжело болен. Живет на севере Шотландии. Он парализован — язык его почти не слушается, ноги — тоже. Практически все время он проводит сидя в кресле и слушая музыку.
— Да, могу себе представить… Что ж, хорошо, хоть это ему доступно. Иначе это был бы сущий ад. Представляете, каково человеку ощущать себя почти трупом и быть прикованным к инвалидной коляске? Это тем более ужасно для столь блистательной и деятельной личности.

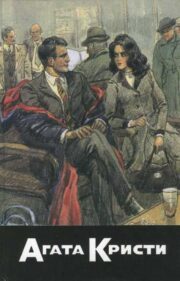
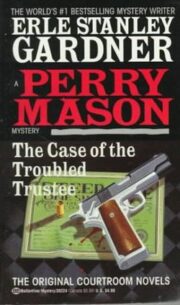
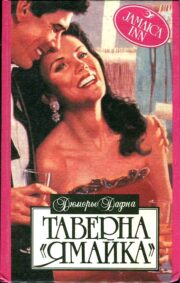
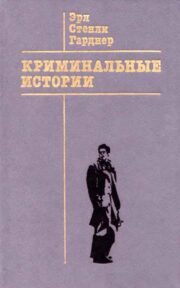
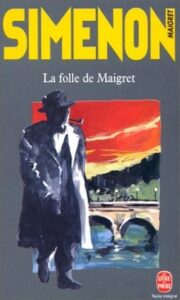
Захватывающие персонажи и интригующие повороты сюжета в мире Агаты Кристи!
Захватывающие персонажи и интригующие повороты сюжета!
Невероятное приключение в мире Агаты Кристи!
Невероятно интригующая история о прошлом и настоящем!
Очень захватывающая история!
Удивительное путешествие в прошлое и настоящее!
Очень захватывающая история о прошлом и настоящем!
Удивительное путешествие в прошлое!
Невероятно захватывающая история о прошлом и настоящем!