— Мисс Комптон Коллир раз в год приезжает фотографировать цветочный бордюр, — сказала Селия. — Множество люпинов, очень крепких.
— И губастики, которые, высунув языки, задыхаются на лужайке, пока миссис Роналд Харрингуэй срезает розы, — сказал Найэл.
Повернулась ручка, и Полли просунула голову в дверь.
— Все в темноте? — жизнерадостно спросила она. — Это не очень весело, не правда ли?
Она повернула главный выключатель у двери, и комнату залил яркий свет. Никто не произнес ни слова. Лицо Полли раскраснелось и посвежело после бодрой прогулки с детьми под дождем. По сравнению с ней мы трое казались изможденными.
— Чай готов, — сказала она. — Я сейчас немного помогла миссис Бэнкс. У детей, да благословит их Господь, такой аппетит после прогулки. Мамочка выглядит усталой.
Полли бросила на Марию критический взгляд: ее поведение представляло собой странную смесь заботы и неодобрения. Дети молча стояли рядом с ней.
— Мамочке надо было пойти с нами на прогулку, ведь правда? Тогда бы ее лондонский вид как рукой сняло. Но ничего. Мамочка скушает большой кусок вкусного торта. Пойдемте, дети.
Она кивнула, улыбнулась и вернулась в столовую.
— Не хочу никакого торта, — прошептала Мария. — Если он такой же, как в прошлый раз, меня стошнит. Я его терпеть не могу.
— Можно мне съесть твой кусок? Я никому не скажу, — попросил мальчик.
— Да, — ответила Мария.
Дети выбежали из комнаты.
Найэл вместе с Селией пошел в столовую, и они принесли чайный поднос с напитками, после чего закрыли дверь в гостиную, отгородившись от застольного шума, такого привычного и по-домашнему уютного.
Найэл выключил свет, и нас снова окутала успокоительная темнота. Мы остались одни, никто не нарушал окружавшей нас тишины и покоя.
— У нас было иначе, — сказал Найэл. — Все ярко, чисто, выхолощено и банально. Пластмассовые игрушки. Вещи, которые приходят и уходят.
— Возможно, и так, — сказала Мария, — а может быть, мы просто не помним.
— Я отлично помню, — сказал Найэл, — я все помню. В том-то и беда. Я помню слишком многое.
Мария налила в чай ложку коньяка, себе и Найэлу.
— Я не выношу классную комнату, — сказала она. — Поэтому никогда туда не захожу. Такая же тюрьма, окна как в этой гостиной.
— Напрасно ты так говоришь, — сказала Селия. — Это лучшая комната в доме. Выходит на юг. Очень солнечная.
— Я не это имею в виду, — сказала Мария. — Она слишком самоуверенна, довольна собой. Так и слышишь, как она говорит: «Разве я не прекрасная комната, дети? Входите же, играйте, веселитесь». И бедные малыши с огромными кусками пластилина в руках усаживаются на сверкающий голубой линолеум. Труда никогда не давала нам пластилин.
— Он был нам просто не нужен, — сказала Селия. — Мы постоянно наряжались.
— Если бы дети захотели, они могли бы наряжаться в мои платья, — сказала Мария.
— У тебя нет шляп, — сказал Найэл, — а без шляп наряжаться неинтересно. Десятки шляп свалены на шкафу, но чтобы их достать, надо забраться на стул. — Он налил себе в чай еще ложку коньяка.
— У Мамы была малиновая бархатная накидка, — сказала Селия. — Я как сейчас ее вижу. Она стягивалась на шнур в бедрах, думаю, ты назвала бы ее оберткой, и заканчивалась широкой меховой оторочкой. Когда я ее надевала, она волочилась по полу.
— Ты воображала себя феей Морганой, — сказала Мария. — С твоей стороны было очень глупо надевать малиновую накидку, изображая фею Моргану. Я тебе говорила, что это неправильно. Но ты заупрямилась и ничего не хотела слушать. Потом пустилась в слезы. Я даже слегка тебя стукнула.
— Ты стукнула ее вовсе не за это, — сказал Найэл. — Тебе самой хотелось взять красную накидку и изображать Джиневру. Разве ты не помнишь, что на полу рядом с нами лежала книга с иллюстрациями Дюлака? На Джиневре был длинный красный плащ, и на него спадали золотые косы. А я надел свою серую куртку задом наперед, чтобы быть Ланселотом, да еще натянул на руки Папины серые носки — это была кольчуга.
— Кровать была очень большая, — сказала Мария. — Просто огромная. Самая большая кровать, какую я видела.
— О чем вы говорите? — спросила Селия.
— О Маминой кровати, — ответила Мария, — в комнате, где мы наряжались. Это было в меблированных комнатах в Париже. Там еще висели картины с изображениями китайцев. Я всегда искала такую же большую кровать, но так и не нашла Как странно.
— Интересно, почему ты вдруг о ней вспомнила? — спросила Селия.
— Не знаю, — ответила Мария. — Это не боковая дверь сейчас хлопнула? Может быть, Чарльз вернулся.
Мы прислушались. И ничего не услышали.
— Да, это была большая кровать, — сказал Селия. — Один раз я в ней спала, когда прищемила палец в лифте. Я спала посередине, между Папой и Мамой.
— Правда? — с любопытством спросила Мария. — Как это на тебя похоже. Тебе не было неловко?
— Нет. А почему мне должно было быть неловко? Было тепло и приятно. Ты забываешь, что для меня это было очень просто. Ведь я принадлежала им обоим.
Найэл со стуком поставил чашку на поднос.
— И надо же сказать такую чушь. — Он встал и закурил еще одну сигарету.
— Но так оно и есть, — сказала удивленная Селия. — Как ты глуп.
Мария медленно пила чай. Она держала чашку обеими руками.
— Интересно, одинаково ли мы их себе представляем, — задумчиво проговорила она. — Я имею в виду Папу и Маму. Прошлое, и как мы были детьми, как росли, все, что делали?
— Нет, — сказал Найэл, — каждый из нас видит их по-своему.
— И если мы объединим наши представления, получится цельная картина, — сказала Селия. — Но только искаженная. Как, например, сегодняшний день. Когда он пройдет, мы будем видеть его по-разному.
Комната погрузилась во мрак, и наступающая ночь казалась жемчужно-серой по сравнению с окружающей нас темнотой. Еще были видны мрачные очертания деревьев, трепещущих под ленивым дождем. Изогнутая ветка ползучего жасмина, вьющегося по стене дома, царапала освинцованные стекла французского окна. Довольно долго никто из нас не проронил ни слова.
— Интересно, — сказала Селия, — что же на самом деле Чарльз имел в виду, назвав нас паразитами?
В комнате с незадернутыми портьерами вдруг повеяло холодом. Огонь почти угас. Дети и Полли за столом ярко освещенной столовой по ту сторону холла принадлежали другому миру.
— Отчасти, — сказала Мария, — это выглядело так, будто он нам завидует.
— То была не зависть, — сказала Селия, — а жалость.
Найэл открыл окно и посмотрел в дальний конец лужайки. Там, в углу, возле детских качелей, стояла плакучая ива, летом она превращалась в самой природой созданную беседку, прохладную, увитую листьями, которые, переплетаясь между собой, приглушали ослепительное сияние солнечных лучей.
Но сейчас, окутанная унылой декабрьской тьмой, она стояла побелевшая, хрупкая; ее ветви были тонки, как кости скелета. Пока Найэл смотрел на раскинувшуюся за окном картину, порыв ветра с моросящим дождем колыхнул ветви плакучей ивы, они закачались, согнулись и разметались по земле. И там, куда был устремлен взгляд Найэла, отчетливо вырисовываясь на фоне вечной зелени, стояло уже не одинокое дерево, но видение женщины, застывшее на фоне театрального задника… еще мгновение, и оно в плавном танце заскользило к нему через погруженную в полумрак сцену.
Глава 4
В последний вечер сезона Папа и Мама устраивали на сцене банкет. По этому поводу нас одевали особенно нарядно. Марию и Селию в шифоновые платья со шнурами, продетыми в прорези на талии, Найэла в матросский костюм, блуза от которого всегда была слишком велика и сидела на нем мешковато.
— Да будешь ты, наконец, стоять спокойно, детка? — ворчала Труда. — Как же мне собрать тебя вовремя, если ты ни в какую не хочешь стоять спокойно? — И она вытягивала пряди волос Марии, потом взбивала их жестким частым гребнем, до тех пор пока они не окружали голову Марии как золотой нимб. — Те, кто тебя не знает, подумают, что ты ангел, — бормотала она, — но мне виднее, я могла бы им кое-что рассказать. А ну, не ерзай. Ты хочешь куда-то пойти?
Мария смотрелась в зеркало платяного шкафа. Дверца была полуоткрыта и слегка ходила, отражение Марии ходило вместе с ней. Ее щеки горели, глаза сияли, волна возбуждения, нараставшая весь день, подкатывала к горлу, и ей казалось, что она задыхается. Она быстро росла, и одежда, которая еще несколько месяцев назад была ей впору, жала в плечах и стала коротка.
— Я это не надену, — сказала она. — Это для детей.
— Ты наденешь то, что велит Мама, или пойдешь в кровать, — сказала Труда. — Ну а теперь, где мой мальчик?
«Мой мальчик» в нижней сорочке и штанах, весь дрожа, стоял перед умывальником. Труда схватила его и, намылив кусок фланели, принялась тереть ему шею и уши.
— И откуда только берется грязь, ума не приложу, — сказала она. — Что с тобой, тебе холодно?
Найэл покачал головой, но продолжал дрожать, и зубы у него стучали.
— Волнение, вот что это такое, — сказала Труда. — Большинство детей твоего возраста давно спят. Что за глупость постоянно таскать вас в театр. Но недалек тот день, когда они об этом пожалеют. Селия, поторопись; если ты собираешься сидеть там и дальше, то просидишь всю ночь. Неужели ты еще не кончила? Иду, мадам, иду… — И, в раздражении щелкнув языком и бросив фланелевую тряпку в таз, оставила Найэла стоять с намыленной шеей, по которой стекали тонкие струйки воды.
— Мы уезжаем, Труда, — сказала Мама. — Если вы привезете детей после антракта, времени хватит.
Натягивая длинные черные перчатки, она, холодная и бесстрастная, на мгновение задержалась в дверях. Ее темные блестящие волосы были, как всегда, разделены на прямой пробор и собраны в узел, спускающийся на шею. По случаю банкета на ней было жемчужное колье и жемчужные серьги.

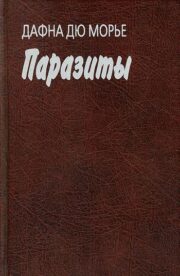

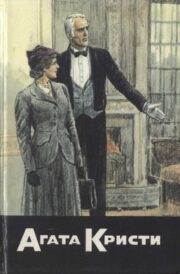
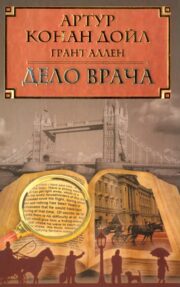
Очень захватывающая история!
Отличное понимание человеческой психологии!
Очень интересное путешествие в мир паразитов.
Дафна дю Морье прекрасно показывает проблемы нашего общества.
Отличная книга для всех, кто ищет правду.
Детальное изучение проблемы и поиск выхода из нее.
Очень познавательное чтение!
Отличное писательское мастерство!
Захватывающие обстоятельства!
Захватывающая история о поиске истины и правды.
Проникновенное понимание природы!
Удивительное произведение!
Захватывающие персонажи!
Отличное произведение для любого читателя!