— Паразит, — сказал он.
И здесь грянул гром. Чарльз бросил газету на пол и встал с кресла. Его лицо побледнело, каждый мускул напрягся, а рот превратился в тонкую, жесткую линию. Раньше мы никогда его таким не видели.
— Совершенно верно, — сказал он, — паразит. И это вы, вы, все трое. Вся компания. Всегда ими были и всегда будете. Вас ничто не изменит, не может изменить. Вы вдвойне, втройне паразиты: во-первых, потому, что с самого детства спекулируете на той крупице таланта, которую вам посчастливилось унаследовать от ваших фантазеров-родителей; во-вторых, потому, что ни один из вас ни разу в жизни не удосужился заняться пусть незаметным, но честным трудом; и, в-третьих, потому, что вся ваша троица живет за счет друг друга и обитает в мире грез и фантазий, который вы сами для себя сотворили и который не имеет ничего общего ни с земной реальностью, ни с небесной.
Чарльз стоял, пристально глядя на нас с высоты своего роста. Ни один из нас не проронил ни звука. То были мучительные, тягостные мгновения, чему уж тут смеяться. Обвинение носило слишком личный характер. Мария открыла глаза, снова откинулась на подушку и смотрела на Чарльза с каким-то непонятным смущением, словно ребенок, которого поймали на озорстве, и он не знает, какое наказание за этим последует. Найэл застыл у рояля, вперив взгляд в пустоту. Селия опустила руки на колени и покорно ожидала следующего удара. Как она жалела, что сняла очки и отложила их вместе с рабочей корзинкой — без них она чувствовала себя раздетой. Они всегда служили ей своеобразным орудием защиты.
— Что ты имеешь в виду? — спросила Мария. — Как это мы обитаем в мире грез и фантазий?
В ее голосе прозвучало недоумение — его обладательнице очень подошло бы невинное личико с широко открытыми изумленными глазами. Найэл и Селия мгновенно узнали это выражение. Не исключено, что узнал его и Чарльз, ведь после стольких лет совместной жизни, возможно, он уже не поддавался на обман.
Словно прожорливая рыба, он с радостью заглотил наживку.
— Только там ты всегда и обитала, — ответил Чарльз, — да и вообще ты не личность, не женщина, обладающая собственной, присущей только тебе индивидуальностью; ты смешение всех персонажей, которых тебе доводилось когда-либо играть на сцене. Твои мысли и чувства меняются с каждой новой ролью. Такой женщины, как Мария, не существует, никогда не существовало. Об этом знают даже твои дети. Вот почему ты их очаровываешь только на два дня, а потом они бегут в детскую к Полли: ведь Полли настоящая, подлинная, живая.
Есть вещи, подумала Селия, которые мужчина и женщина говорят друг другу только в спальне. Но не в гостиной, не в воскресенье вечером. О, Мария, пожалуйста, не отвечай ему, не распаляй его гнев, который накапливался месяцы, годы… Ведь теперь ясно, как он несчастлив, несчастлив давно, о чем мы даже не догадывались или чего просто не понимали… И она ринулась в битву. Она должна защитить Найэла и Марию. Она всегда так делала.
— Я очень хорошо понимаю, Чарльз, что вы имеете в виду, — сказала Селия. — Конечно, Мария меняется от роли к роли, но ей это было присуще и в детстве; она всегда была не только Марией, но кем-то еще. Однако несправедливо говорить, что она не работает. Кому как не вам это знать, ведь вы бывали, во всяком случае раньше, на ее репетициях — это ее жизнь, ее профессия, которой она отдает себя целиком. И вы должны это признать.
Чарльз рассмеялся, и по его смеху Мария поняла, что Селия не только не исправила, но еще больше осложнила положение.
Когда-то Мария умела совладать с этим смехом: она вскакивала с дивана, обнимала Чарльза за шею и говорила: «Не будь таким глупеньким, дорогой. Какая муха тебя укусила?» И увлекала его к хозяйственным постройкам, притворяясь, будто ее очень интересует какой-нибудь старый трактор, закром с зерном или черепица, упавшая с крыши флигеля, — все, что угодно, лишь бы не омрачать первые шаги их совместной жизни. Теперь положение изменилось, старые уловки ни к чему не приведут, и уж, конечно, подумала Мария, в столь поздний час он не станет устраивать сцен ревности к Найэлу; это было бы глупо с его стороны, да к тому же и бессмысленно — пора бы ему знать, что Найэл как бы часть меня самой, так было всегда. Я никогда не позволяла этой части вмешиваться в мою личную жизнь, мою работу да и вообще ни во что. Она никогда не доставляла неприятности ни Чарльзу, ни другим, просто Найэл и я, я и Найэл… Затем ее мысли смешались в бессвязный клубок, и она вдруг чего-то испугалась, словно ребенок, попавший в темную комнату.
— Работа? — переспросил Чарльз. — Называйте это работой, если вам так нравится. Работа цирковой собачки, которую щенком приучили прыгать за подачку и которая автоматически прыгает до конца дней своих, стоит под куполом зажечься огням, а публике начать аплодировать.
Как жаль, что Чарльз никогда раньше так не говорил, подумал Найэл. Мы могли бы стать друзьями. Я отлично понимаю его. В подобном разговоре я бы с удовольствием принял участие эдак в половине пятого утра, когда все вокруг крепко под мухой, а я трезв как стеклышко, но сейчас в доме у Чарльза он представляется мне крайне неуместным, даже ужасным, как будто священник, к которому испытываешь искреннее уважение, принялся стаскивать с себя брюки посреди церкви.
— Но людям доставляет удовольствие смотреть на эту собачку, — быстро проговорил он, желая отвлечь Чарльза от скользкой темы. — Они для того и ходят в цирк, чтобы развеяться. Мария предлагает им тот же наркотик в театре, а я — и в немалых дозах — всем мальчишкам-рассыльным, которые насвистывают мои мелодии. По-моему, вы употребили не то слово. Мы лоточники, мелкие торговцы, а не паразиты.
Из противоположного конца комнаты Чарльз посмотрел на сидящего у рояля Найэла. Вот оно, ребята, подумал Найэл, вот то, чего я ждал всю жизнь, сокрушительный удар ниже пояса; как трагично, что нанесет его старина Чарльз.
— Вы?..
Какое нескрываемое презрение, какая горькая затаенная ревность в его голосе.
— Так кто же я? — спросил Найэл, и, подобно тому, как фасад дома теряет свою прелесть, когда закрываются ставни, так и его выразительное лицо, утратив озарявший его внутренний свет, превратилось в безжизненную маску.
— Вы шут гороховый, — ответил Чарльз, — и у вас хватит ума понять это, что, должно быть, крайне неприятно.
О, нет… нет… подумала Селия, чем дальше, тем хуже, и почему именно сегодня? Это моя вина — зачем я спросила про акростих. Надо было предложить перед чаем прогуляться по парку или сходить в лес.
Мария поднялась с дивана и подбросила в камин большое полено. Она размышляла о том, как лучше поступить: придумать какую-нибудь дурацкую шутку или броситься за экран и устроить сцену со слезами, чтобы разрядить атмосферу и отвлечь внимание на себя, — испытанный еще во времена их детства прием, всегда достигавший цели, когда у Найэла были неприятности с Мамой, Папой или старой Трудой. Или выскочить из дому, уехать на машине в Лондон и забыть об этом злополучном воскресенье? А забудет она скоро. Она все забывала, ничто надолго не задерживалось в ее памяти. Но Найэл спас положение сам. Он опустил крышку рояля, подошел к окну и остановился, глядя на деревья в дальнем конце лужайки.
За окном было тихо и спокойно, как всегда в те короткие мгновения, что предшествуют приходу темноты на склоне недолгого зимнего дня. Дождь прекратился, но теперь это было не важно. На опушке леса группы деревьев казались особенно прекрасными и уныло-одинокими, а голая ветка старой высохшей ели, словно чья-то изогнутая рука, в причудливом движении вздымалась к небу. Мокрый скворец искал червей в сырой траве. Эту картину Найэл знал и любил; он всегда любовался ею, когда ему случалось бывать здесь одному, и непременно запечатлел бы ее на бумаге, умей он рисовать, перенес бы на холст, обладай он даром живописца, отобразил бы в переплетениях музыкальной ткани, если бы звуки, изо дня в день рождавшиеся у него в голове, выливались в симфонию. Но этого не происходило. Звуки сливались в бренчание, в расхожие мелодии, которые мальчишки-рассыльные насвистывали на перекрестках да молоденькие смешливые продавщицы напевали в магазинах, — жалкий дешевый вздор, который забывался через неделю-другую, вот и вся его слава. Нет, он не обладал истинным дарованием: лишь крупицей унаследованного таланта, которая позволяла ему сплетать мелодию за мелодией, без усилий, даже без особой к тому склонности, и заработать состояние, к чему он отнюдь не стремился.
— Вы правы, — сказал он Чарльзу, — целиком и полностью правы. Я шут гороховый.
Какое-то мгновение он стоял, занятый своими, одному ему ведомыми мыслями, как в те далекие годы детства, в парижском отеле, когда Мама не обращала на него внимания, и он, маленький мальчик, делал вид, что ему это безразлично, подбегал к окну, смотрел на улицу и плевал на головы прохожих. Затем выражение его лица изменилось, он запустил пальцы в волосы и улыбнулся.
— Вы победили, Чарльз, — сказал он, — паразиты повержены. Но, если я хоть немного помню биологию, те, за чей счет они живут, в конце концов тоже умирают.
Найэл снова подошел к роялю и сел на стул.
— Впрочем, не важно, — заметил он. — Вы подали мне идею еще одной пустячной песенки. — И, по-прежнему улыбаясь Чарльзу, взял свой любимый аккорд в своей любимой тональности.
Так давайте же питаться
Мы друг другом натощак,[1] —
запел он вполголоса, и чувственный танцевальный ритм глупой песенки ворвался в зловещую атмосферу темной гостиной подобно внезапному взрыву детского смеха.
Чарльз резко повернулся и вышел из комнаты.
И мы остались втроем.
Глава 2
Люди всегда судачили о нас, даже когда мы были детьми. Куда бы мы ни поехали, везде мы вызывали странную враждебность окружающих. Во время Первой мировой войны и сразу после нее другие дети отличались вежливостью и хорошими манерами; мы же демонстрировали отсутствие всякого воспитания и полную необузданность. Эти ужасные Делейни… Марию не любили за то, что она копировала всех и каждого, и не всегда исподтишка. Она обладала необыкновенным даром преувеличивать малейшие недостатки или характерные особенности того или иного человека: поворот головы, пожатие плеч, интонацию голоса; и несчастная жертва всегда знала об этом, знала, что взгляд больших синих глаз Марии, с виду таких невинных и мечтательных, на самом деле сулит какую-нибудь дьявольскую каверзу.

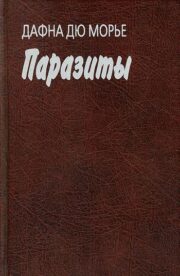




Очень захватывающая история!
Отличное понимание человеческой психологии!
Очень интересное путешествие в мир паразитов.
Дафна дю Морье прекрасно показывает проблемы нашего общества.
Отличная книга для всех, кто ищет правду.
Детальное изучение проблемы и поиск выхода из нее.
Очень познавательное чтение!
Отличное писательское мастерство!
Захватывающие обстоятельства!
Захватывающая история о поиске истины и правды.
Проникновенное понимание природы!
Удивительное произведение!
Захватывающие персонажи!
Отличное произведение для любого читателя!