Я посмотрел на него. Я уже не упрекал его. Но я смотрел на него.
— Мой милый, милый Чарли, — продолжал он, — умоляю тебя, не думай обо мне дурно! Я знаю, ты имеешь право требовать от меня полнейшей откровенности, и, верь мне, я до сих пор всегда был с тобой откровенен. Я ненавижу скрытность. Это низкое свойство, и я не терплю его. Но мы с моей любимой скрывали все это ради тебя же самого!
Он и его любимая! Это придало мне твердости.
— Вы скрывали все это ради меня, сэр? — переспросил я, удивляясь, как может он произносить подобные слова с таким честным, открытым лицом.
— Да… и ради Анджелы, — подтвердил он.
Мне почудилось, будто комната неуклюже закружилась — как волчок, который вот-вот остановится.
— Объяснись, — сказал я, держась рукой за кресло.
— Милый, дорогой друг Чарли! — сердечным тоном отозвался Эдвин. — Подумай сам! Вы с Анджелой были так счастливы; мог ли я скомпрометировать тебя в глазах ее отца, посвятив тебя в нашу помолвку и в наши тайные планы после того, как он отказал мне в руке своей подопечной? Право же, лучше для тебя, что ты искренне можешь сказать ему: «Он не посоветовался со мной, он ничего мне не сказал, ни слова». Если Анджела и догадывалась, если она по мере сил сочувствовала и помогала мне — благослови ее бог, какая это прелестная девушка и какая несравненная жена из нее получится! — то сам я тут ни при чем. Ни я, ни Эмелин, мы ни о чем не говорили ей, так же как и тебе. И по той же причине, Чарли, верь мне, по той же причине, ни по какой другой!
Эмелин была двоюродная сестра Анджелы. Жила у нее в доме. Воспитывалась вместе с нею. Состояла под опекой ее отца. Имела средства.
— Значит, в карете сидит Эмелин, мой дорогой Эдвин! — воскликнул я, обнимая его с величайшей нежностью.
— Ну, знаешь, — сказал он, — неужели ты думаешь, что я отправился бы в Гретна-Грин без нее?
Я выбежал из дома вместе с Эдвином, я распахнул дверцу кареты, я схватил Эмелин в свои объятия, я прижал ее к сердцу. Она была закутана в мягкие белые меха, как и вся снежная равнина вокруг нас, но она была теплая, юная и прелестная. Я своими руками запряг их передних лошадей и дал их слугам по пятифунтовой бумажке; я кричал им «ура», когда они отъезжали, а сам сломя голову умчался в противоположную сторону.
Я не поехал в Ливерпуль, я не поехал в Америку, я вернулся прямо в Лондон и женился на Анджеле. До сего дня я так и не открыл ей той тайной черты своего характера, которая породила во мне недоверие и заставила меня предпринять ненужное путешествие. Когда она, и они, и восемь человек наших детей, и семеро ихних (я говорю о детях Эдвина и Эмелин, а их старшая дочь уже такая взрослая, что ей самой пора надеть подвенечное платье, в котором она будет еще больше похожа на мать), когда все они прочтут эти страницы — а они, конечно, прочтут их, — меня, наконец, разоблачат. Ничего! Я перенесу это.
В «Остролисте» рождественские праздники пробудили во мне, по простой случайности, интерес к людям и стремление понять их и позаботиться о тех, кто меня окружает. Надеюсь, мне от этого не стало хуже и никому из близких или чужих мне людей не стало от этого хуже. И вот что я еще скажу: да цветет зеленый остролист, глубоко врастая корнями в нашу английскую почву, и да разнесут птицы небесные его семена до всему свету!


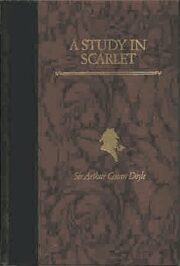



"Остролист (В трех ветках)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Остролист (В трех ветках)", автор: Чарльз Диккенс. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Остролист (В трех ветках)" друзьям в соцсетях.