– Непонятно, почему человек ваших способностей зарабатывает себе на жизнь гидом?
– В Милане для меня нет другой работы, которой я мог бы заняться, я – иностранец. И у меня нет разрешения полиции на проживание в Италии. Это секрет, конечно.
– Это правда?
– Да.
– Почему вы не получите его?
– Не могу получить, пока не докажу, что у меня есть работа, а я не могу получить работу, пока не предъявлю разрешение полиции. Замкнутый круг.
– Почему вы приехали в Италию?
– Я люблю эту страну и пишу книгу о кафедральных соборах Италии.
– О, я скорее подумала бы, что вы были бы последним человеком на свете, который мог бы написать об итальянских соборах.
– Вы ошибаетесь. До войны я жил в Нью-Йорке, я архитектор, не самый знаменитый, но на приличную жизнь хватало. Потом пошел в армию. Потом война. Наша часть одной из первых вошла в Рим, я был потрясен его великолепием и тогда решил, что напишу книгу о его соборах. Демобилизовавшись, я не вернулся в Америку и остался в конце концов в Милане. Связываться с полицейскими формальностями не хотелось, и мне вполне хватает на жизнь тем, что зарабатываю гидом в кафедральном соборе. Вот и вся моя жизненная история.
– Может быть, было бы лучше получить вид на жительство?
– Может быть, но меня пока такая жизнь вполне устраивает.
Пьеро принес котолетте – телячьи котлеты на косточке, смазанные яйцом и обвалянные в панировочных сухарях.
Когда он отошел, она спросила:
– У вас действительно нет денег?
– Теперь есть.
– Нет, до того…, до меня.
– Моя работа не позволяет мне вести роскошную жизнь, – уклончиво ответил я. – Может быть, хватит обо мне, расскажите о себе!
Лаура приподняла брови:
– Ничего особенного. Я работала в американском консульстве у одного из заместителей госсекретаря. Здесь встретила Бруно, он предложил мне выйти за него замуж. Он очень богат. К тому времени мне уже до смерти надоела работа в офисе, а он так искренне полюбил меня, и я согласилась выйти за него замуж. Через год он попал в автомобильную катастрофу, у него серьезная травма позвоночника, а кроме того, он получил и другие не менее тяжелые травмы, как заключили врачи, но выжил. Они не знали Бруно. Нет ничего на свете, чего бы он не сделал, если он того захотел. Он захотел жить и живет. Четыре года он не двигается, не владеет руками и ногами, не говорит. Но живет!
– И нет никакой надежды на улучшение? Она покачала головой:
– Я не знаю, как долго продлится такая жизнь. Врачи теперь осторожны в своих прогнозах: он может умереть завтра, а может жить и сто лет.
От злобы, внезапно вдруг прозвучавшей в ее голосе, у меня по спине поползли мурашки.
– Сочувствую, – только и мог сказать я.
– Да, – рассмеялась она, – как видите, моя жизнь в данный момент не сахарный пирог.
– Что вы делаете в Милане? – спросил я, пытаясь отвлечь ее от столь неприятной темы.
– Я была у своего парикмахера. Атмосфера в доме ужасная. Решила отвлечься и заглянула в собор. Я рада, что пришла сюда, – сказала она и, как мне показалось, с нежностью посмотрела на меня.
Я подумал о ее “живом трупе” – муже и попытался представить себе, что бы чувствовал я, будь на его месте. У него наверняка нет душевного покоя. Он наверняка подозревает Лауру. А когда ее нет дома – ревнует.
– Бруно доверяет мне, – сказала Лаура, словно прочитав мои мысли, – ему и в голову никогда не придет, что я могу дать волю своим чувствам. Он верит в мою верность.
Меня поразило то, что она поняла, о чем я думаю.
– Такое доверие, наверное, тяжело для вас.
– До сегодняшнего дня я не тяготилась этим, – сказала она медленно, не глядя на меня, – но сейчас вдруг подумала, что это глупо. Четыре года! Возможно, вот так и пройдет моя молодость. Я не знаю, как долго это еще будет продолжаться. Кроме того, как он узнает, если я когда-нибудь дам волю своим чувствам?
Я почувствовал, как забурлила моя кровь. Я должен был что-то сказать. Судя по всему, она хотела, чтобы ее убедили, что при подобных обстоятельствах измена мужу не может считаться грехом. Мне это было бы не трудно. На моем месте мог бы оказаться другой. Но я никак не мог выкинуть из головы ее больного мужа. Что бы чувствовал и думал я на его месте?!
– Трудно быть в чем-нибудь уверенным наверняка, особенно в таком случае, – сказал я. – Некоторые люди, особенно больные, очень чувствительны к тому, что происходит рядом. Он очень быстро может догадаться, что происходит. Вы можете выдать себя. Скорее всего, так и будет. И сделаете ему больно, когда он узнает о том, что произошло. Не так ли?
Она задумчиво покачивала свой бокал и вдруг безвольно поставила его на стол. Секунд пять она сидела не шевелясь, не глядя на меня, а потом сказала:
– Вы необыкновенный человек, Дэвид. Большинство мужчин даже не подумали бы о нем.
– Я думаю не столько о нем, сколько о вас. У меня есть некоторый жизненный опыт. И поверьте мне, раскаяние приходит обычно ночью и не дает покоя до утра.
Она улыбнулась. Улыбка была холодной, а лицо оставалось бесстрастным.
– Да, я ошиблась, именно вы тот человек, которому стоит продолжать писать книгу о кафедральных соборах. У вас характер как у святого, и вы, наверное, безгрешны.
Мое лицо залилось краской.
– Я не мог не сказать вам этого. Да, я так чувствую. Не в моем характере бить лежачего. Если бы ваш муж мог позаботиться о себе, постоять за себя, это было бы другое дело. А я, должен признаться, не могу стрелять по сидящим птичкам.
– Мне это нравится в вас, Дэвид. – Ее глаза лучились странным, завораживающим светом. Она как бы отдалилась от меня на тысячу миль. – Я полагаю, вы правы – это была бы стрельба по сидящим птичкам. К сожалению, у меня другое отношение к ценностям такого рода. Если бы мне когда-нибудь пришлось стрелять в птицу, то, наверное, я предпочла бы убить ее, чем ранить и отпустить для долгих страданий. – Она взглянула на свои часы. – О, я должна бежать. Я не предлагаю вам заплатить за обед. Вам это не понравилось бы, не так ли? – Она поднялась. – По-жа-луйста, не провожайте меня. Я предпочитаю уйти одна.
Она опять угадала. Я как раз хотел сказать, что заплачу за обед.
– Я еще увижу вас?
Она засмеялась, искренне забавляясь ситуацией. – А зачем? Меня не интересуют ваши соборы, а вас – мои трудности.
Она стояла против света, и изящные контуры ее тела отчетливо просматривались сквозь блузку. Мои добрые намерения исчезли. Я понял: сейчас она уйдет навсегда.
– Подождите минутку…
– Прощайте, Дэвид. Спасибо за ленч. Отправляйтесь домой писать вашу книгу. Уверена, она будет иметь большой успех. – Она пошла по проходу между столиками. Пьеро поклонился ей, а она, на несколько секунд остановившись, что-то ему сказала. Ее силуэт обрамлялся солнечным светом, а сквозь складки юбки я видел темноватые контуры ее стройных ног и округлые линии бедер. Не оглянувшись, она вышла на улицу.
А я сидел, ощущая с ее уходом пустоту и злость. Смотрел на то место, где она остановилась, заговорив с Пьеро, и проклинал свою чертовскую глупость, свои никому не нужные принципы, но внутренний голос нашептывал, что я сделал все правильно.
Пьеро подошел к столику:
– Вы довольны, синьор Дэвид?
– Да, спасибо, все было прекрасно. Счет, пожалуйста.
– Какая красивая синьора!
– Счет, Пьеро!
Он ушел, вернулся со счетом и подал его, но без улыбки на своем добродушном лице. Я отдал ему купюру в тысячу лир.
– Оставьте сдачу себе. Пьеро.
– Но этого слишком много! – воскликнул Пьеро. – Я же вижу, вы сами нуждаетесь в деньгах…
– Оставьте сдачу себе и не приставайте ко мне! Он поспешно возвратился за стойку и уселся там, бросая на меня удивленные и соболезнующие взгляды.
Я потянулся за своим окурком.
И тут я увидел брошь.
Возле пепельницы, наполовину прикрытая салфеткой, лежала бриллиантовая брошь. Брошь, должно быть, каким-то образом выскользнула из сумочки, когда она доставала платок. А может, Лаура оставила ее тут, зная, что я найду ее.
У Торрчи была небольшая квартирка на улице недалеко от Пьяцца Лорето. На этой площади была установлена виселица с телом Муссолини. А Торрчи был ярым антимуссолинистом и приложил огромные усилия к поискам квартиры именно в этом месте, чтобы утром, идя на “промысел” к собору, плюнуть на то место, где когда-то тело Муссолини оплевывалось разъяренной орущей толпой.
Квартира находилась на самом верхнем этаже грязного ветхого дома, со времен войны хранившего на своих стенах следы шрапнели. По обе стороны от него до сих пор оставались огромные кучи щебня и кирпича – последствия бомбежек.
Переступая через играющих на лестничных площадках детей и раскланиваясь по пути с мужчинами и женщинами, праздно сидящими в креслах возле открытых дверей, я поднялся наверх.
В полдень Торрчи обычно возвращался домой для небольшого отдыха, и он сейчас должен быть дома. Торрчи был человеком строгих привычек: утром в девять тридцать уходил к собору, возвращался на ленч к двенадцати, отдыхал и отправлялся обратно к четырем, оставаясь в соборе до семи. Он никогда не отступал от этого распорядка дня, за исключением двух выходных дней в неделю, когда он ездил к своим родителям в Неаполь.
Постучав в дверь, я вытер носовым платком лицо и руки. Здесь, наверху, было очень жарко от солнечных лучей, буквально прожигавших железную крышу. Торрчи открыл дверь: босой, в грязной белой футболке и черных шортах, с залитым потом круглым лицом, будто он только что умывался. Торрчи воскликнул:
– Синьор Дэвид! Входите! Уже месяц, как вы не навещали меня!
– Может быть, – согласился я и прошел вслед за ним в большую неопрятную гостиную. На кушетке возле окна, одетая только в легкие розовые брючки, лежала Симона, подружка Торрчи. Это была маленькая, изящная девушка, с черными глазами и короткими черными волосами, так круто вьющимися, что ее голова была похожей на каракулевую шапку.




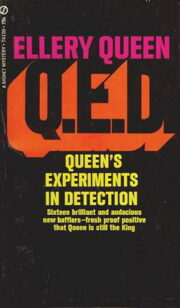
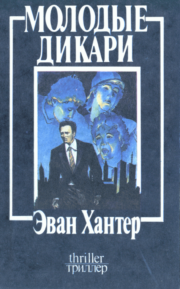
Я прочитала книгу Джеймса Хэдли Чейза «Осторожный убийца» и была поражена ее интригующим сюжетом. Автор прекрасно передал настроение и атмосферу происходящего, позволяя читателю погрузиться в мир преступлений и постепенно понимать причины действий главного героя. Эта книга показывает, что настоящая мудрость и доброта могут проявиться даже в самых трудных и неожиданных ситуациях.
Превосходно