Если это еще неясно, приведу простой пример. Нынешние гуманисты хотят внушить нам одну исключительно широкую веру (под словом «гуманист», как теперь положено, я подразумеваю того, кто защищает права всех существ в ущерб человеку). Они говорят, что с каждым веком мы становимся все гуманнее и постепенно включаем в светлый круг сострадания рабов, детей, женщин, коров и так далее. Когда-то, говорят они, считалось естественным есть людей. Правда, этого не было; людоедство — признак упадка, а не первоначальной простоты. Гораздо больше оснований предположить, что наши современники станут есть людей из снобизма, чем поверить, что первобытные ели их по неведению. Но сейчас я не собираюсь критиковать познания гуманистов в истории; я просто излагаю их взгляды, а считают они, что люди обращаются все мягче — сперва с согражданами, потом с рабами, потом с животными, а потом, наверное, с растениями. Мне кажется, что нехорошо сесть верхом на человека. Вскоре я пойму, что нехорошо сесть на лошадь. Потом, наверное, не сяду и на стул. Так они считают. Что ж, вполне возможно применить и здесь идеи эволюции или неизбежного прогресса. Быть может, мы и впрямь будем мучить все меньше и меньше существ и предметов — не по воле, а просто потому, что к тому идет; рожают же некоторые звери все меньше и меньше детенышей. Это достаточно глупо, чтобы счесть процесс естественным.
Из дарвинизма можно вывести две безумные нравственные системы (и ни одной разумной). Учение о сродстве и борьбе всех существ может породить и болезненную жестокость, и болезненную сентиментальность — только не здоровую любовь к животным. Исходя из эволюции, можно стать бесчеловечным или слащавым — человечным стать нельзя. Если вы и тигр не слишком отличаетесь друг от друга, вас может охватить нежность к тигру и тигриная жестокость. Можно (хоть и нелегко) «поднимать тигра до себя»; легче опуститься до тигра. Ни в том, ни в другом случае учение об эволюции не поможет вам относиться к тигру правильно.
Если же вы хотите отнестись к нему так — вернитесь в рай. Неотступный голос снова подсказал мне: только тот, кто верит в сверхъестественное, здраво смотрит на естественное. Все пантеизмы, эволюционизмы и прочие вселенские религии основаны на том, что Природа — наша мать. Если вы в это поверите, вы, как ни печально, тут же заметите, что она скорей похожа на мачеху. Христианство же говорит, что природа нам не мать, а сестра. Мы вправе гордиться ее красотой, и отец у нас один; но она над нами не властна, и, восхищаясь, мы не должны ей подражать. Вот почему в христианском умилении земным есть почти легкомысленная легкость. Природа была величавой матерью поклонникам Изиды и Кибелы. Она была величавой матерью для Уордсворта и Эмерсона. Но для святого Франциска она была сестрой, даже сестричкой — любимой и немножко смешной.
Я собирался писать не об этом; и пишу только для того, чтобы показать, как упорно — и словно невзначай — подходит ключ к самой маленькой дверце. Писать я собираюсь вот о чем: если бы природа бессознательно и сама по себе менялась к лучшему, она шла бы к чему-нибудь простому. Нетрудно представить, что по закону биологии наши носы становятся все длиннее. Но хотим ли мы этого? Кажется, нет; нам бы хотелось, чтобы нос был такой длины, как того требует красота. Однако можем ли мы представить, что слепой биологический процесс ведет к красоте? Ведь для нее нужно определенное, и очень сложное, сочетание всех черт. Простой эволюцией к ней не придешь — она или случайна, или преднамеренна. Точно так же обстоит дело с идеалом человеческой этики. Быть может, мы досовершенствуемся до того, что не посмеем терзать собеседника доводом или будить птичку кашлем. В конце концов мы не посмеем двинуться, чтобы не потревожить мухи, и перестанем есть, чтобы не погубить микроба. Возможно, мы идем к столь простой и тихой жизни. Но хотим ли мы ее? Может быть и другое: мы, как мечтал Ницше, развиваемся в противоположную сторону. Сверхчеловеки будут крушить друг друга, соревнуясь в злой силе, пока не разнесут между делом весь мир. Но хотим ли мы, чтобы мир разнесли? Скорей уж мы стремимся к сочетанию двух благ — сдержанности и дерзости, малости — и смелости. Если ваша жизнь была хоть раз хороша, как детская сказка, вспомните, в чем прелесть сказок: герой способен дивиться — но не пугаться. Если он испугается великана — ему конец; если же он великану не дивится — конец сказке. Он должен быть таким смиренным, чтобы взглянуть снизу вверх, и таким гордым, чтобы бросить вызов. Так и мы; к великану мира сего надо не просто относиться все мягче или все жесточе. Мы должны сохранить столько брезгливости, чтобы, если надо, плевать в звезды. А главное — если мы хотим быть лучше и радостней, мы должны сохранить то и другое вместе, причем не кое-как перемешанным, а в определенном, одном узоре. Совершенная земная радость (если она придет) не окажется плоской и тяжкой, как животное довольство. В ней будет опасное и точное равновесие романтического подвига. Если вы не верите в себя, вы не выйдете на путь приключений; если вы не сомневаетесь в себе — вы не сумеете ими насладиться.
Вот наше второе требование. Во-первых, идеал должен быть точным; во-вторых, он должен быть непростым. Душе мало, если что-то одно — милосердие, гордость, мир, отвага — поглотит все остальное. Нужен совершенно определенный узор, где все — в свою меру и на своем месте. Я не обсуждаю сейчас, ждет ли нас этот узор. Я просто говорю: если ждет, кто-то его создал, потому что только личность может правильно все разместить. Если мир улучшается сам собой, прогресс должен быть простым, как постепенное понижение или повышение температуры. Если же это — сложно, как творчество, значит, есть и творец. И тут снова мои домыслы прервал древний голос: «Я мог бы сказать тебе это давно. Если мир куда-то идет, он может идти только туда, куда Я веду его — к сложной системе ценностей, где истина и милость встречаются[96]. Безличная сила может тянуть вас в плоские пустоши или на острые вершины скал. Но только Бог может вести вас — и ведет — в город, где улицы и здания подчинены сложному плану, и вам дано прибавить ваш собственный, неповторимый цвет к многоцветному плащу Иосифа[97]».
Так во второй раз христианство дало мне точный ответ. Я сказал: «Пусть идеал будет твердым»; а Церковь ответила: «Мой — тверже твердого, потому что он уже был». Потом я сказал: «Пусть он будет сложным, как картина»; а она ответила: «Так оно и есть, ибо я знаю, Кто — художник». Тогда я задумался о третьей черте моей утопии. Она тоже очень нужна; рассказать о ней труднее всего. Попробую так: даже в утопии надо смотреть в оба, чтобы нас оттуда не выгнали, как выгнали некогда из рая.
Часто говорят, что надо быть прогрессивным, потому что все идет к лучшему. На самом деле единственный довод в пользу прогресса — то, что все идет к худшему. Все портится; вот лучший аргумент в пользу прогресса. Если б не это, консерваторам было бы нечего возразить. Они говорят: оставьте все как есть и будет хорошо. Но это не так. Все будет плохо. Оставьте в покое белый столб — и он очень скоро станет черным. Хотите, чтоб он был белым, — красьте его снова и снова; другими словами, снова и снова восставайте. Если вам нужен старый белый столб, постоянно создавайте новый. Это — так, когда речь идет о предметах; это еще верней и страшней, когда речь идет о людях. Все человеческие установления старятся с такой сверхъестественной быстротой, что нам нельзя думать ни минуты. В газетах и книжках принято писать о тяжком иге старых тираний. На самом же деле мы почти всегда страдаем от новой тирании, которая лет за двадцать до того была свободой. Англия восторгалась до безумия патриотической монархией Елизаветы[98], а потом, почти сразу, возмутилась до безумия тиранией Карла I[99]. Во Франции монархию не смогли вынести не после того, как ее терпели с грехом пополам, а после того, как ей поклонялись. Людовику Любимому наследовал Людовик Казненный[100]. У нас, в XIX веке, прогрессивного фабриканта считали чуть ли не народным трибуном, пока социалисты не возопили, что он — кровавый тиран и людоед. Еще пример: газета была для нас глашатаем общественного мнения, и вдруг (именно — вдруг, не постепенно) некоторые обнаружили, что это ей и не снилось. Мы поняли, что газеты — прихоть нескольких богачей. Совсем не нужно восставать против старого; восставать надо против нового. Мир держат в оковах новые тираны — капиталисты, издатели газет. Вряд ли король в наши дни грубо нарушит конституцию; скорей он обойдет ее, будет действовать за ее спиной. Он воспользуется не королевской властью, а королевским безвластием, бессилием — тем, что никто ничего о нем не знает и не может на него напасть. Ведь король теперь — самое частное из частных лиц, И еще один пример: газетчикам незачем сражаться против цензоров. Прошли те времена. Теперь сама газета — цензор.
Все общественные установления заболевают тиранией с поразительной быстротой; вот третий факт, который должна учесть наша безупречная теория прогресса. Надо все время следить, чтобы той или иной свободой не злоупотребляли; чтобы то или иное право не стало злом. Здесь я полностью согласен с революционерами. Они правы, когда не доверяют тому, что установили люди; правы, когда не надеются на князей и сынов человеческих[101]. Вождь, избранный как друг народа, становится ему врагом; газета, созданная, чтоб все узнали правду, скрывает ее от всех. Да, я понял революционеров; и снова у меня перехватило дух — я вспомнил, что и на этот раз я заодно с христианством.
Оно заговорило снова. «Я учило всегда, что люди по природе своей неустойчивы; что добродетель их легко ржавеет и портится; что сыны человеческие сползают к злу, особенно если они благополучны, горды и богаты. Это недоверие, этот вечный мятеж вы на вашем неточном, новом языке именуете доктриной прогресса. Будь вы философом, вы бы, как я, сказали „догмат о первородном грехе“. Зовите это, как вам нравится; я же зову это истинным именем: грехопадение человека».
Мы сравнивали правую веру со шпагой; тут я сравню ее с боевым топором. И впрямь — кто, кроме христианства, смеет сомневаться в праве сытых и воспитанных на власть? Социалисты, даже демократы, часто говорят от том, что бедность неизбежно приведет к умственной и нравственной деградации. Ученые (даже демократы — да, есть и такие) говорят: если мы улучшим условия, зло и порок исчезнут. Я слушаю их внимательней внимательного, словно зачарованный. Они очень похожи на человека, рьяно перепиливающего сук, на котором он сидит. Если им удастся доказать свою теорию, демократию можно хоронить. Из того, что бедные — нравственные ублюдки, совсем не вытекает, что нужно их спасти. Зато отсюда непременно вытекает, что им не надо давать гражданских прав. Если человек, у которого нет спальной, не способен к свободному выбору, надо немедленно лишить его голоса. Правители вполне резонно скажут: «Возможно, со временем мы дадим ему лучшее жилище. Но если он такой скот, как вы говорите, он пока что погубит страну. Спасибо за намек, мы примем меры». Жутковато, но занятно смотреть, как серьезный социалист прилежно мостит дорогу для аристократии. Представьте, что кто-то, придя на званый вечер, просит прощения за то, что он — не во фраке, и объясняет, что он напился, разделся на улице и, кстати, вообще до этого был в тюремной одежде. Хозяин может сказать, что, если дело так плохо, можно было бы и не приходить. Точно таков социалист, когда он радостно доказывает, до какого убожества довела людей бедность. Богатый может сказать: «Что ж, прекрасно — мы и не будем доверять им» — и захлопнет перед ними дверь. Учение о наследственности и среде — прекрасный довод в защиту аристократии. Если удобный дом и чистый воздух очищают душу, почему не вручить власть тем, у кого все это есть? Если хорошие условия помогли бы бедным лучше управлять собой, почему не дать богатым право управлять бедными? Обеспеченные — просто передовой отряд, уже проникший в Утопию.

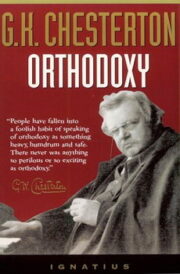

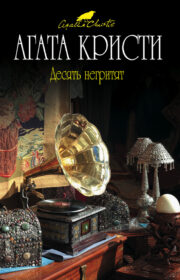
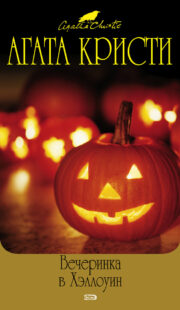
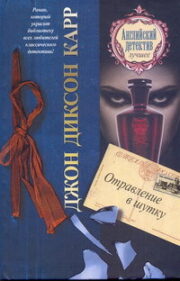
"Ортодоксия" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ортодоксия", автор: Гилберт Кийт Честертон. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ортодоксия" друзьям в соцсетях.