Обычно внешность человека дает нам некое общее представление о свойствах его души. Капитан высок и хорошо сложен, лицо его смугло и красиво, он имеет привычку слегка подергивать руками и ногами – не то от нервности, не то давая выход избытку энергии. У него решительный подбородок, и все черты его говорят о решительности и мужестве характера. Но самое примечательное в его лице – это глаза, темно-карие, яркие, внимательные, взгляд их выражает сложную гамму чувств – это удивительная смесь бесшабашности с чем-то, что порою кажется мне сродни скорее страху, чем какой-либо иной эмоции. Конечно, бесшабашность обычно превалирует, но временами, и особенно когда он задумывается, по лицу его расползается выражение страха, и страх этот, становясь все заметнее и заслоняя собой все в нем, как бы подменяет характер, полностью меняя и внешность. Именно в эти минуты он более всего раздражителен и гневлив, и, по-видимому, сам это за собой знает, почему он нередко и запирается в каюте и не пускает туда никого, пока не пройдет приступ черной тоски и меланхолии. Спит он плохо, и я слышал, как он стонет и кричит во сне, однако каюта его от моей находится на расстоянии, и потому слов, какие он бормочет или выкрикивает во сне, я никогда расслышать не мог.
Но это лишь одна особенность его характера, самая неприятная из всех, и только долго и близко с ним общаясь, находясь в его обществе много дней кряду, смог я ее заметить. По большей же части он ведет себя как человек милый, покладистый и компанейский, начитанный и занятный; что же касается его моряцких качеств, то моряка храбрее его трудно сыскать. Мне не забыть, как вел он судно, когда в начале апреля мы попали в жестокий шторм и бурю. В ту ночь он выглядел не просто бодрым, он был весел – он энергично вышагивал по мостику, а вокруг него сверкали молнии, и воющий ветер гнал по морю огромные валы. Сколько раз я слышал от него, что мысль о смерти, которая так угнетает человека молодого, ему, капитану, даже приятна. А ведь сам он вряд ли старше тридцати с лишком лет, хотя волосы его и борода уже тронуты сединой. Наверно, ему довелось испытать какое-то горе, навеки оставившее на нем свой след и омрачившее всю его жизнь. Возможно, и я бы стал таким, если б потерял Флору. Одному Господу ведомо, не было бы и мне тогда все равно, какой ветер подует завтра – северный или южный. Слышу сейчас, как он спускается вниз и запирается у себя в каюте – значит, все еще не в духе. Итак, пора на боковую, как сказал бы старый Пепис: свеча догорает – ведь белые ночи теперь кончились, и приходится жечь свечи; – стюард же ушел к себе, и надежды раздобыть новую свечу нет.
12 сентября
Ясный тихий день, а мы дрейфуем все на том же месте. Ветерок юго-восточный и слабенький. Настроение капитана улучшилось, и за завтраком он извинился передо мной за грубость. Однако выглядит он рассеянным, а глаза сохраняют диковатое выражение. В горах про такого сказали бы, что «с ним нехорошо», так, по крайней мере, шепнул мне сейчас старший механик, а он среди кельтской части нашей команды слывет человеком прозорливым и знающим толк в приметах.
Удивительно, какую власть имеют суеверия над народом столь практичным и здравомыслящим. Я бы никогда не поверил, не наблюдай я воочию во время нашего плаванья доказательств великой склонности кельтов к суеверию. Это вроде какой-то эпидемии, и я испытываю сильное желание добавить к успокоительным и стимулирующим снадобьям, которыми я потчую матросов, порцию грога по субботам. Первым симптомом эпидемии стала жалоба штурвальных, поступившая вскоре после нашего отбытия с Шетландов: матросы говорили, что в кильватере слышатся какие-то завыванья и жалобные крики, словно за судном кто-то гонится и не может догнать. Выдумка эта оказалась стойкой и продержалась на протяжении всего нашего пути, а в темные ночи начала нашей охоты на тюленей заставить людей спуститься на лед было не так-то просто. Не подлежит сомнению, что услышанные ими звуки были либо скрипом штурвальных цепей, либо криком какой-нибудь залетной морской птицы.
Несколько раз меня поднимали с постели, чтобы я послушал это сам, но не могу сказать, чтоб в звуках этих я услышал что-либо противоестественное. Однако матросы были так уверены в абсурдных своих предположениях, что разубеждать их и спорить с ними было делом безнадежным. Однажды я заговорил об этом с капитаном, и, к моему удивлению, он отнесся к сообщению весьма серьезно и, как мне показалось, забеспокоился. Я-то думал, что хотя бы он выше глупых предрассудков.
В результате всех этих толков и обсуждений выяснилось, что наш второй помощник мистер Мэнсон прошлой ночью видел призрак, или, по крайней мере, утверждает, что его видел, что в данном случае одно и то же. Как же бодрит и радует душу возникновение новой темы для беседы после рутинных, навязших в зубах за долгие месяцы плаванья историй о медведях и китах! Мэнсон клянется, что судно наше находится во власти злых чар и что, будь у него такая возможность, он сию же минуту покинул бы его. Парень и вправду здорово напуган и я, чтобы немного привести его в чувство, дал ему утром хлористого и бромистого калия. Мое предположение, что, видно, вечером он немного перебрал, Мэнсон с негодованием отверг, и я вынужден был его успокоить и сохранять полную серьезность, слушая историю, которую он нам рассказал тоном самым будничным и прозаическим:
«Я был на мостике, – рассказывал он, – во время второй вахты, когда пробило четыре склянки, а ночь была самая темная. Месяц на небе все время заволакивали тучи, и от корабля далеко видно не было. С баковой надстройки спустился Джон Маклеод, гарпунер, и сказал, что с правого борта поближе к носу слышится странный шум. Я прошел туда с ним, и мы оба это слышали, будто ребенок плачет или девушка стонет от боли. Я семнадцать лет хожу в Арктику и не слыхал, чтоб какой-нибудь тюлень, старый либо молодой, так кричал. Когда мы стояли с ним на баке, из-за туч выглянул месяц, и мы оба с ним увидели, как по льду в том месте, откуда шли звуки, движется белая фигура. Потом мы потеряли ее из вида на время, а потом она возникла вновь – уже у левого борта, спереди, и мы смогли разглядеть ее получше – на льду она казалась тенью. Я послал юнгу за ружьями, и мы с Маклеодом спустились на лед, решив, что, может быть, это медведь. Выйдя на лед, я потерял Маклеода, но продолжал двигаться в том направлении, откуда все еще неслись крики. Я шел на эти крики и прошагал, наверное, с милю, а потом, обойдя небольшой холм, вдруг наткнулся прямо на него; он стоял на вершине и словно ждал меня. И это был, во всяком случае, не медведь – кто-то высокий, белый, прямой, не похожий ни на женщину, ни на мужчину, клянусь всем чем угодно – это было кое-что похуже. И я припустил со всех ног к кораблю и рад был до чертиков, когда взобрался на борт. Я подписал контракт и должен выполнять то, что должен, потому на судне я останусь, но на лед после захода солнца не спущусь, хоть ты тресни!»
Таков был его рассказ, который я записал, по возможности, его же словами. Полагаю, что увиденное им вопреки тому, что он сказал, могло быть молодым медведем, стоящим на задних лапах – в позе, которую они нередко принимают, когда испытывают тревогу. При неверном освещении фигура медведя может быть принята за человеческую, в особенности если нервы увидевшего напряжены и он сам находится в состоянии паники. Как бы там ни было, последствия этого случая были самые печальные, ибо он неприятно подействовал на экипаж. Люди стали угрюмее, а недовольство их стало выражаться более открыто. Переживания, что они не поспевают к ловле сельди, усугубленные еще и сознанием, что застряли они на «нехорошем», как они считали, судне, могли толкнуть их на необдуманные действия. Даже гарпунеры, самые опытные и стойкие в команде, разделяли общее настроение.
Но, не считая этой вспышки абсурдного суеверия, дела наши идут на поправку. Паковый лед к югу от нас частично рассредоточился, льдины стали уходить, а показавшаяся вода такая теплая, что мне пришло даже в голову, что дрейфуем мы в одном из ответвлений Гольфстрима, проходящего между Гренландией и Шпицбергеном. Возле корабля плавают маленькие медузы и «морские лимоны», очень много креветок, так что есть все основания ждать и появления «рыбы». В обед мы и вправду заметили фонтан, но в стороне, куда лодкам было не подойти.
13 сентября
Имел интересный разговор на мостике с первым помощником мистером Милном. Похоже, что наш капитан представляет собой загадку не только для меня, но и для своих товарищей по команде; да и для владельцев судна тоже. Мистер Милн говорит, что после возвращения и получения денег капитан Креги исчезает, а появляется вновь лишь с приближением следующего сезона, когда он как ни в чем не бывало входит в контору и спрашивает, не нуждается ли компания в его услугах. В Данди у него нет друзей, и никто не может похвастаться, что знает, откуда он и как жил раньше. Положением же среди моряков он всецело обязан только своему профессиональному мастерству и слухам о том, как храбро и хладнокровно он себя вел в то время, когда был еще только первым помощником. Все единодушны в мнении, что он не шотландец и что служит он под вымышленной фамилией. Мистер Милн считает, что китобойному промыслу он посвящает жизнь по той причине, что это самое опасное из всех занятий, какие он только мог измыслить, и что он сознательно идет навстречу смерти. В доказательство своих слов Милн приводит примеры некоторых случаев, один из которых, если он не вымышлен, кажется мне особенно любопытным.
Однажды перед началом сезона он так и не появился в конторе, и вместо него пришлось взять другого человека. Дело было во время последней русско-турецкой войны. Когда же следующей весной он появился вновь, на шее у него был шрам, который капитан тщился прикрыть шейным платком. Правильна или нет догадка помощника, что Креги участвовал в военных действиях, сказать не берусь. Но совпадение, согласитесь, странное и наводит на размышления.




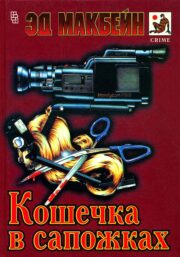
Очень приятно читать!
Очень интересные детали!
Очень интересный поворот событий!
Очень понравилось!
Невероятно захватывающие персонажи!
Отличное произведение для любителей детективов!
Очень захватывающий план!
Очень захватывающий сюжет!
Очень захватывающая история!
Отличное произведение Артура Конан Дойла!