Красивы были и руки Миллисент, и, казалось, в отличие от своей владелицы, они об этом догадывались и всегда представлялись под самым выигрышным углом: вот они касаются каминной полки, манжеты небрежно расстегнуты; а вот длинный рукав спадает так безупречно, что даже легкий изгиб не нарушает совершенства линии. Когда Миллисент разливала чай, руки неуловимыми движениями порхали над серебром. Кажется, это было в Лондоне, в их узкой унылой гостиной. Снаружи моросило, из окон струился серый дождливый свет, и картины на стенах, какими бы яркими красками их ни писали, казались такими же серыми. В такой день сияния лишилась бы даже картина Ван Гога – но только не волосы Миллисент.
Сегодня, однако, я взглянул на нее лишь мельком, взмахнул вишневой тросточкой и спросил:
– Думаю, бесполезно звать вас со мною на лодке?
Она слегка улыбнулась. Улыбка означала отказ.
– А где Эдвард? Играет в гольф?
Улыбка Миллисент стала насмешливой.
– Охотится на кроликов с каким-то егерем, познакомился с ним в пабе. Проходу не стало от этих егерей – заполонили все окрестные рощи и поля. Тоже мне охота! Запускают в норы хорьков, вот кролики и выскакивают наружу.
– Да, слыхал. А потом пьют кровь.
– Это мне впору пить кровь, если вы меня оставите. Ступайте, но не опаздывайте к чаю.
– Должно быть, это и впрямь весело – проторчать здесь в одиночестве до самого вечера. В тихом уголке, слушая жужжание пчел, вдыхая аромат нектаринов. Сидеть и ждать чай – тоже мне революция.
Она подняла на меня бледно-голубые английские глаза – не грустные или утомленные, просто слишком долго смотревшие в одну точку.
– Революция? О чем вы?
– Понятия не имею, – признался я честно. – Думал, вы оцените юмор. До вечера.
Неудивительно, что англичане считают нас, американцев, слегка туповатыми.
До озера я добрался в считаные минуты. По размеру английские озера не чета нашим, но здесь были крохотные островки, создававшие иллюзию пространства, а птицы с шумом сновали вокруг или надменно раскачивались на тонких стеблях камыша. Кое-где заросли подступали прямо к серой воде. Тут птицы не водились. Чья-то растрескавшаяся, но не дырявая лодчонка была привязана к бревну короткой веревкой, заскорузлой от времени и остатков краски. Я приставал к островкам. Местные на них не жили, но держали огороды. Иногда какой-нибудь старик, завидев чужака, бросал рыхлить землю и, прикрывая ладонью глаза, всматривался в меня. Я выкрикивал вежливое, почти английское приветствие. Он не отвечал, ибо был слишком стар, глух и не собирался впустую переводить силы.
Сегодня я устал больше обычного, поэтому решил повернуть назад. Лодка была неповоротливой, как старый амбар, который унесло по разлившейся Миссисипи, а недлинные весла казались короче обычного. К вечеру от воды потянуло сыростью. Я направился к берегу, а желтые столбы света пробивались из иного мира в просветах между буковыми листьями.
Я подтащил лодку за фалинь к бревну и распрямился, посасывая ушибленный палец.
Ни топота копыт, ни звяканья колец на конце мундштука я не слышал. То ли виной тому были прошлогодние листья, устилавшие берег, то ли ее колдовская власть над благородным животным.
Я распрямился. Она была от меня на расстоянии девяти футов, не более.
В черной амазонке и белом охотничьем галстуке, молодая женщина сидела по-мужски на зловещего вида жеребце. Ее черные глаза улыбались. Она была необыкновенно хороша. Я никогда прежде ее не встречал.
– Любите кататься на лодке? – осведомилась незнакомка с присущей моим соотечественникам бесцеремонностью, не имеющей ничего общего с простодушием. Певчая птичка, хористочка американского разлива.
Конь покосился на меня налитым кровью глазом, тронул копытом листву и замер, шевеля ухом.
– Ненавижу, – признался я. – Устанешь как черт, все руки в волдырях, а до дому еще три мили.
– Тогда зачем? Я вот всегда делаю только то, что хочу.
Она коснулась шеи жеребца рукой в длинной перчатке – черной, как ее амазонка.
Я пожал плечами:
– Что-то в этом есть. Физические упражнения. Нервы успокаивает. Нагоняет аппетит. Не могу придумать ничего умнее.
– А вы постарайтесь. Вы же американец!
– Я?
– Это очевидно. Стоило мне только увидеть, с какой яростью вы гребете, я сразу догадалась. К тому же акцент.
Наверное, в моем взгляде, обращенном к ее лицу, промелькнуло что-то алчное, но кажется, это ее не смутило.
– Живете у Крэндаллов, в Бадденхэме, не так ли, мистер Американец? В нашем захолустье сплетни распространяются быстро. Я – леди Лейкенхем, из Лейквью.
Вероятно, что-то в моем лице изменилось – как если бы я вслух воскликнул: «Та самая!»
Это не ускользнуло от ее внимания. Она вообще была приметливой и, кажется, видела людей насквозь. Как бы то ни было, ничего не шелохнулось в черных бездонных колодцах ее глаз.
– Красивый тюдоровский дом. Я видел издали.
– Взгляните вблизи – зрелище того стоит. Приглашаю на чай. Как вас зовут?
– Парингдон. Джон Парингдон.
– Джон – какое мужественное имя. Впрочем, скучноватое. Что ж, хоть какое-то разнообразие. В течение нашего недолгого знакомства я буду звать вас так. Держитесь за стремя, Джон, – несильно, чуть повыше железки.
Жеребец заволновался, но она что-то проворковала ему на ухо, и он послушно побрел к дому, настороженно навострив уши, – только их кончики подрагивали, когда птичьи стайки проносились над кронами деревьев.
– Какой воспитанный, – заметил я.
Она изогнула черные брови:
– Ромео? Не всегда. Нам попадаются разные люди, верно, Ромео? И наше поведение изменчиво. – Она легко взмахнула коротким хлыстом. – Но на вас это не распространяется, верно?
– Почем знать? Все может статься.
Она рассмеялась. Тогда я еще не знал, что смеялась она нечасто.
Несколько дюймов отделяло мою ладонь от ее ступни. Сам не знаю почему, но мне захотелось к ней прикоснуться. Показалось, что ей самой этого хочется.
– Хочу похвались ваши манеры, – сказала она.
– Рано судить о моих манерах. Порой они стремительны, как ласточки, а то неповоротливы, как волы в упряжке, но всегда не вовремя.
Хлыст лениво просвистел рядом, не задев ни меня, ни вороного, который меньше всего ждал удара.
– Вы со мной флиртуете?
– А вы наблюдательны.
Виноват во всем был вороной жеребец – внезапно он встал как вкопанный, и моя рука скользнула к ее лодыжке, где и осталась.
Всадница не шелохнулась. Жеребец застыл, как бронзовая статуя. Понятия не имею, как ей это удалось.
Очень медленно она перевела взгляд на мою руку на своей лодыжке:
– Вы сделали это намеренно?
– Еще как.
– По крайней мере, в смелости вам не откажешь.
Ее голос донесся откуда-то издали, словно лесное эхо. Я затрепетал как лист.
Она медленно наклонялась, пока ее лицо не оказалось почти вровень с моим. Ни единый мускул громадного конского крупа не дрогнул.
– Я могу сделать три вещи, – сказала она. – Угадайте какие.
– Нет ничего проще. Ускакать, огреть меня хлыстом или рассмеяться.
– Я ошибалась… – Ее голос неожиданно сел. – Четыре.
– Хочу поцеловать твои губы, – сказал я.
2
Дом появился внезапно – на склоне холма, ниже широкого травяного круга, бывшего когда-то римским лагерем. И хотя в названии усадьбы упоминалось озеро, никакого озера не было и в помине.
Местность поражала невиданной для Англии запущенностью: дом был заплетен плющом, высокая трава шелестела на лужайках. За садом давно не следили, елизаветинские площадки для игры в кегли по колено заросли сорняками.
Сам дом из потемневшего от времени красного кирпича с выступающими тяжелыми окнами со свинцовыми переплетами представлял собой образец традиционной архитектуры времен королевы Елизаветы. Жирные пауки, словно епископы, дремали за стеклами в окружении паутины, сонно поглядывая на остролицых щеголей в разрезных дублетах, что неодобрительно взирали из своих суровых времен на Англию, чуждые прелестям английской провинции.
Показались конюшни, заросшие мхом и запущенные. Оттуда вышел гном, в штанах для верховой езды, с огромными ручищами и выдающимся носом, и принял поводья.
Обойдя двор конюшни, леди Лейкенхем, не говоря ни слова, повернула к дому.
– Это не упадок, – заметила она, когда гном уже не мог нас слышать, – а убийство. Он знал, как я люблю это место.
– Твой муж? – спросил я с ненавистью, не разжимая губ.
– Идем к главному входу. Оттуда открывается лучший вид на парадную лестницу. Там он себя превзошел. Это предмет его гордости.
Перед нами открылось обширное пространство, опоясанное подъездной аллеей. Посередине росли древние дубы. Лужайка с грубо скошенной пожелтевшей травой выглядела еще хуже, чем участки, которых не косили. Дубы отбрасывали на разоренную лужайку длинные крадущиеся тени – бессловесные, мрачные пальцы ненависти. Тени, и в то же время не просто тени, как тень в солнечных часах всегда больше чем тень.
На тихий дребезжащий звук колокольчика вышла старуха, такая же дряхлая и скособоченная, как гном. Такие, как она, сами в дом не входят – их надо впустить. Старая ведьма что-то бормотала себе под нос на невразумительном местном диалекте, словно сыпала проклятиями.

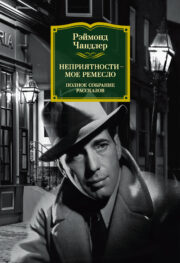
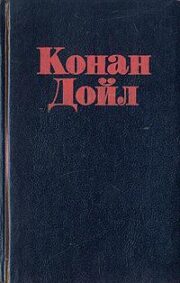

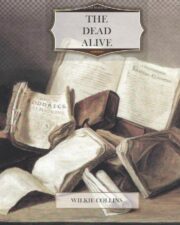

"Неприятности – мое ремесло" отзывы
Отзывы читателей о книге "Неприятности – мое ремесло", автор: Рэймонд Чандлер. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Неприятности – мое ремесло" друзьям в соцсетях.