— А зачем, бабушка, она лежала в постели?
— Так принято, душечка.
Раз принято, то от дальнейших вопросов Селия воздержалась.
— Она всегда отлеживалась целый месяц, — продолжала бабушка. — Только тогда и могла передохнуть, бедняжка. Как она наслаждалась этим месяцем. Обычно завтракала в постели — вареным яичком. Впрочем не много ей от того яичка перепадало. Мы, дети, бывало прибежим и начинаем приставать. «Можно попробовать яичка, ма? А мне можно верхушечку?» Не много ей самой оставалось после того, как каждый ребенок попробует. Уж очень она была добрая — слишком мягкая. Умерла, когда мне было четырнадцать. Я была старшей в семье. Бедного отца горе просто убило. Они были очень друг к другу привязаны. Через полгода и он вслед за ней слег в могилу.
Селия понимающе кивнула. Ей казалось это правильным и подобающим. В большинстве книжек у нее в детской были сцены у смертного одра — обычно умирал ребенок, редкий праведник, настоящий ангел.
— От чего он умер?
— Скоротечная чахотка, — ответила бабушка.
— А твоя мама?
— Зачахла, милая. Взяла и зачахла. Всегда хорошенько закрывай шейку, когда идешь на улицу и дует восточный ветерок. Помни это, Селия. Ветер с востока — он убивает. Мисс Сэнки, бедняжка, — всего месяц назад мы с ней чаёвничали. Но вот пошла в эту мерзкую купальню, вышла оттуда, а ветер дул с востока, горло у нее было открытое — через неделю она умерла.
Почти все бабушкины истории и воспоминания кончались именно так. По природе своей человек жизнерадостный, она упивалась рассказами о неизлечимых болезнях, внезапных кончинах, таинственных недугах. Селия так к этому привыкла, что в самый разгар бабушкиного рассказа, сгорая от любопытства и нетерпения, спрашивала, перебивая бабушку: «А потом он умер, бабулечка?» И бабушка отвечала: «Да, умер, бедняга». Или бедная девочка, или мальчик, или женщина — в зависимости от того, о ком шла речь. Ни одна из бабушкиных историй не имела счастливого конца. Возможно, это была естественная реакция ее здоровой и энергичной натуры.
Не скупилась бабушка и на загадочные предостережения.
— Если кто-нибудь, кого ты не знаешь, предлагает тебе угощение, никогда не бери. А когда подрастешь, никогда не садись в одно купе с одиноким мужчиной.
Вот это предостережение особенно обеспокоило Селию. Она была ребенком робким. Если нельзя садиться в одно купе с одиноким мужчиной, значит, придется его спросить, женат ли он или нет. На лбу ведь у него не написано, одинокий он человек или женатый. От одной лишь мысли, что придется такое сделать, Селия вся сжималась.
Фразу, произнесенную однажды шепотом женщиной, которая пришла к бабушке в гости, Селия к себе не отнесла:
— Не надо бы забивать голову такими вещами.
Бабушка чуть на крик не сорвалась.
— Те, кого предупреждают вовремя, горя потом не ведают. Молодым людям надо об этом знать. Вы вот, наверное, дорогуша, об этом и не слышали. А мне говорил мой муж — мой первый муж. — (У бабушки было трое мужей — такой привлекательной была ее фигура и так хорошо ублажала она мужской пол. Она всех их схоронила, одного за другим: одного со слезами, другого — смирясь, третьего — просто соблюдая приличия.) — Он говорил, что женщинам надлежит знать о таких вещах.
Бабушка понизила голос и заговорила свистящим шепотом.
То, что Селия услышала, показалось ей скучным. Она побрела в сад…
2.
Жанна ходила подавленная. Она все больше тосковала по Франции и по своим родным. Английские слуги, пожаловалась она Селии, все такие злые.
— Сэра, кухарка, она gentille, хотя и зовет меня паписткой. Но другие — Мэри и Кейт — они потешаются надо мной, потому что я не трачу свое жалованье на платья, а отправляю деньги домой маман.
Бабушка пыталась утешить Жанну.
— И дальше веди себя разумно, — говорила она Жанне. — Уймой ненужных побрякушек приличного мужчину не заманишь. И дальше посылай деньги матери, и к тому времени, когда придет пора выходить тебе замуж, у тебя уже будет кое-что про запас. Простенькие скромные платья куда больше приличествуют домашней прислуге, чем все эти финтифлюшки. Будь и дальше разумной девушкой.
Но порой, когда Мэри и Кейт особенно злобствовали или ехидничали, Жанна давала волю слезам. Английские девушки не любили иностранок, а Жанна к тому же была паписткой, а все знают, что католичка поклоняется вавилонской блуднице.
Бабушкины грубоватые утешения не всегда заживляли раны.
— Ты правильно делаешь, что держишься своей религии. Не то, чтобы я сама исповедывала католицизм, нет, я не исповедую. Большинство католиков, которых я знала, были врунами. Я была бы о них лучшего мнения, если бы их священники женились. А монастыри! Сколько красивых девушек ушло в монастырь и никто больше о них не слышал! Что с ними сталось, хотелось бы мне знать? Позволю себе заметить, что священники могли бы ответить на этот вопрос.
К счастью, Жанна не настолько хорошо овладела английским, чтобы разобрать этот поток слов.
Мадам очень добра, ответила Жанна, и она постарается не обращать внимания на то, что говорят другие девушки.
Потом бабушка призвала к себе Мэри и Кейт и, не стесняясь в выражениях, отчитала их за недоброе отношение к бедняжке, оказавшейся в незнакомой стране Мэри и Кэйт отвечали очень спокойно, очень вежливо и в крайнем удивлении. Да что вы, они ничего такого и не говорили — ничего совершенно. Просто Жанна сильна на выдумки.
Бабушка взяла все же реванш: она отказала Мэри в разрешении держать у себя велосипед.
— Меня просто удивляет, Мэри, как ты можешь о таком просить. Ни один из моих слуг никогда не будет вести себя непотребно.
Надувшись, Мэри пробормотала, что ее кузине в Ричмонде разрешено иметь велосипед.
— Чтобы я больше этого не слышала, — сказала бабушка. — Кроме всего прочего, они очень опасны для женщин. Многие женщины, катавшиеся на этих гадких штуковинах, потом не могли рожать детей. Штуковины эти вредны для женских внутренностей.
Мэри и Кэйт удалились, надувшись. Они могли бы сказать, что увольняются, но место было хорошим. Еда прекрасная — никаких подпорченных продуктов, как водится в других местах, и работа не тяжелая. Хозяйка, пожалуй, мегера, но по-своему добра. Случись дома какая беда, она придет на помощь, а на Рождество никто не может соперничать с ней в щедрости. Конечно, у старой Сэры язычок тот еще, но с этим надо мириться. Готовит она отменно.
Как и все дети, Селия часто наведывалась на кухню. Старуха Сэра была куда злее Раунси, но ведь она ужасно старая. Если бы кто-нибудь сказал Селии, что Сэре сто пятьдесят лет, она бы нисколько не удивилась. Нет на свете человека, думала Селия, старше Сэры.
Сэра способна была обижаться по совершенно немыслимым поводам. Например, Селия однажды отправилась на кухню и спросила у Сэры, что та готовит.
— Суп с потрохами, мисс Селия.
— А что такое потроха, Сэра?
Сэра поджала губы.
— О таких вещах воспитанные барышни не справляются.
— Но что это такое? — В Селии загорелось озорное любопытство.
— Ну, хватит, мисс Селия. Не пристало такой леди, как вы, задавать такие вопросы.
— Сэра, — Селия закружилась по кухне, ее льняные волосы подпрыгивали, — что такое потроха? Сэра, что такое потроха? Потроха… потроха… потроха?
Разъяренная Сэра замахнулась на нее сковородкой, и Селия убежала, а через несколько минут опять просунула голову на кухню и спросила:
— Сэра, что такое потроха?
Затем она повторила свой вопрос, заглянув в кухонное окно.
Сэра, покраснев от раздражения, не отвечала, только что-то бормотала себе под нос.
В конце-концов, устав от всего этого, Селия отправилась разыскивать бабушку.
Бабушка вечно сидела в столовой, окна которой выходили на короткую подъездную аллею прямо перед домом. Эту комнату Селия и через двадцать лет могла бы описать в мельчайших подробностях. Занавески из толстых ноттингемских кружев, гранатовые с позолотой обои, общее впечатление мрака, и слабый аромат яблок, и полуденная тишина. Просторный, викторианских времен, обеденный стол со скатертью из шенили, массивный буфет красного дерева, низкий столик у камина с кучей газет, тяжелая бронза на камине («Твой дедушка выложил за них семьдесят гиней на Парижской выставке»), диван, обтянутый блестящей красной кожей — на нем Селия иногда «отдыхала»: диван был такой скользкий, что с трудом удавалось усидеть на нем и не сползти на пол; связанный из гаруса коврик покрывал спинку дивана; на подоконниках стояли подставки, заставленные всякой мелочью; был тут вращающийся книжный шкафчик на ножке, кресло-качалка, обитое красным бархатом, — Селия однажды так сильно раскачалась, что перевернулась вместе с ним через голову и набила себе шишку размером с яйцо, — ряд стульев, обтянутых кожей, вдоль стены, и наконец большое кожаное кресло с высокой спинкой — в нем бабушка и сидела, занимаясь тем, другим или третьим.
Без занятия бабушка никогда не бывала. Она писала письма — длинные письма — тонким, каким-то паутинным почерком, в основном на половинках бумаги, — таким образом, исписывая листы до конца: бабушка терпеть не могла расходовать что-либо зря. («не будешь транжирить, не будешь и нуждаться», — говорила она Селии.) Кроме того, она крючком вязала шали — прелестные шали: пурпуровые, голубые и лиловые. Как правило, для родственников прислуги. И еще она вязала на спицах, из больших мотков мягкой овечьей пряжи. Обычно — для чьего-нибудь ребенка. Плела она и кружева — ажурной кружевной пеной обвязывала кружочек Дамаска. Во время чаепития все пирожные и бисквиты возлежали на этих пенистых салфеточках. Далее — жилеты для знакомых бабушкиных пожилых мужчин. Их нашивали на полосы сурового полотна, из которого делают полотенца, простегивали и обшивали цветастой хлопковой тканью. Это, пожалуй, была любимая бабушкина работа. Хотя ей был восемьдесят один год, она все еще поглядывала на мужчин. И вязала им также носки — теплые шерстяные, в которых ложатся спать.

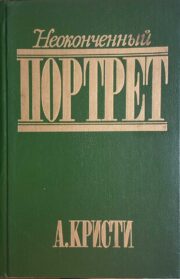



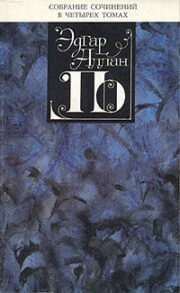
"Неоконченный портрет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Неоконченный портрет", автор: Агата Кристи. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Неоконченный портрет" друзьям в соцсетях.