Поедут она, отец и Сирилл. Сирилл высокомерно изрек:
— Ах, и малявка тоже едет. Она будет только мешать.
И все же он очень любил Селию, но то, что она тоже ехала с ними, задевало его мужское достоинство. Предполагалось, что это будет мужская экспедиция — женщины и дети остаются дома.
Рано утром в день великой экспедиции Селия, уже собравшись, стояла на балконе и ждала, когда придут мулы. Они рысью выбежали из-за угла — большие, крупные животные, — скорее лошадки, чем ослики. Селия помчалась вниз, полная радостных предчувствий. Смуглолицый человечек в берете разговаривал с отцом. Он уверял, что с маленькой мадемуазель все будет в порядке. Он сам за ней будет присматривать. Отец и Сирилл влезли на мулов, затем проводник приподнял Селию и усадил ее в седло. От высоты даже дух захватывало! Но как интересно!
Тронулись. С балкона мать махала им рукой на прощанье. Селия трепетала от гордости. Она чувствовала себя совсем взрослой. Проводник ехал рядом с ней. Он ей что-то говорил, но поняла она очень мало, потому что у него был сильный испанский акцент.
Это была великолепная поездка. Они ехали вверх по зигзагообразным тропам, которые становились все круче и круче. А теперь ехали уже по откосу по одну сторону тропы возвышалась скала, по другую — крутой обрыв. В местах, казавшихся наиболее опасными, мул, на котором ехала Селия, останавливался и бил копытом. Ему тоже нравилось ходить по краю обрыва. Очень хорошая лошадка, подумала Селия. Звали мула, кажется Анисовый, что Селии показалось очень странной кличкой для лошади.
Был полдень, когда они добрались до самой вершины. Там стояла крошечная хижина, а перед ней — стол; они расселись, и хозяйка тут же вынесла им обед — и очень даже вкусный. Омлет, жареная форель, плавленый сыр и хлеб. Была там здоровая лохматая собака, с которой Селия поиграла.
— C’est presqu’un Anglais, — сказала женщина. — Il s’appelle Milord[16].
Милорд был очень дружелюбным и позволял Селии делать с собой все, что она захочет.
А потом отец Селии взглянул на часы и сказал, что пора двигаться обратно. Он позвал проводника.
Тот пришел улыбаясь. У него было что-то в руках.
— Смотрите, что я только что поймал, — сказал он.
Это была красивая большая бабочка.
— C’est pour Mademoiselle[17],— сказал он.
И быстро, и ловко, прежде чем девочка поняла, что он собирается сделать, вытащил булавку и приколол бабочку к тулье ее соломенной шляпки.
— Voilà que Mademoiselle est chic[18], — сказал он и чуть отступил, любуясь своей работой.
Привели мулов, все расселись, и начался спуск.
Селию мутило. Она чувствовала, как бьются крылья бабочки о ее шляпку. Бабочка была живая — живая. И приколота булавкой. Крупные слезы застилали Селии глаза и покатились по щекам.
Отец, наконец, заметил.
— В чем дело, куколка?
Селия покачала головой. И расплакалась еще больше.
— Она боится лошади, — сказал Сирилл.
— Не боюсь, — сказала Селия.
— Тогда почему такой рев?
— La petite demouselle est fatiquée[19],— высказал предположение проводник.
Слезы текли у Селии все быстрее и быстрее. Все смотрели на нее, допытывались, в чем дело, — но как могла она сказать в чем дело! Проводник ужасно обиделся бы. Он ведь хотел сделать приятное. Только ради нее и поймал эту бабочку. Так гордился своей выдумкой — тем, что придумал приколоть бабочку на шляпку. Разве может она при всех взять и сказать, что ей это не нравится? И теперь никто никогда, никогда не поймет. От ветра крылышки у бабочки колыхались еще сильнее. И Селия просто заливалась слезами. Ей казалось, что свет не видел большого горя.
— Лучше бы нам прибавить ходу, — сказал отец. Вид у него был сердитый. — Надо поскорее отвезти ее к матери. Мать была права. Для ребенка это слишком тяжело.
Селии хотелось кричать: «Нет, не тяжело, не тяжело нисколько». Но она не закричала, так как поняла, что тогда ее опять начнут спрашивать: «А в чем же дело?» И она только молча трясла головой.
Селия проплакала всю обратную дорогу. Горе ее становилось все тяжелее и тяжелее. Всю в слезах сняли ее с мула, и отец на руках отнес ее в гостиную, где сидела поджидая их, мать.
— Ты права была, Мириам, — сказал отец. — Для ребенка это слишком тяжело. Я не знаю, в чем дело — то ли у нее что-то болит, то ли она переутомилась.
— Нет, — проговорила Селия.
— Ей было страшно спускаться вниз по кручам, — сказал Сирилл.
— Не было, — сказала Селия.
— Тогда в чем же дело? — спросил отец.
Селия тупо смотрела на мать. Теперь она поняла, что так и не сможет ничего рассказать. Причина ее горя навсегда скрыта будет в ее груди, навсегда. Она хотела рассказать, она очень хотела рассказать, но почему-то не могла. Что-то таинственное замкнуло ее губы на замок. Если бы только мамочка знала. Мамочка бы поняла. Но она не смогла рассказать мамочке. Они все смотрели на нее, ждали, когда она начнет говорить. Ужасная мука терзала ее. Она тупо, словно в агонии, смотрела на мать. «Помоги мне», — говорил этот взгляд, — пожалуйста, помоги».
Мириам так же пристально смотрела на нее.
— По-моему, ей не нравится бабочка на шляпке, — сказала она. — Кто ее туда приколол?
О, какое облегчение — чудесное, болезненное, мучительное облегчение.
— Ерунда, — начал было отец, но Селия перебила его.
Слова хлынули из нее, словно вода из прорванной плотины.
— Мне неприятно, неприятно, — кричала она. — Она же крылышками машет. Она живая. Ей больно.
— Почему, глупышка, ты сразу этого не сказала? — спросил Сирилл.
Ответила мать:
— Я думаю, она не хотела обидеть проводника.
— О, мамочка, — воскликнула Селия.
Все было в этих двух словах. Чувство облегчения, признательность и переполнявшая ее любовь.
Мама все поняла.
Глава третья
Бабушка
1.
Следующей зимой отец с матерью уехали в Египет. Они посчитали практически невозможным взять с собой Селию, и потому Селия с Жанной отправлены были гостить к бабушке.
Бабушка жила в Уимблдоне, и Селии очень нравилось гостить у нее. В бабушкином доме был, во-первых, сад — эдакий квадратный носовой платочек зелени, окаймленный кустами роз, каждый из которых был прекрасно знаком Селии, так что даже зимой она могла сказать: «А вот это — розовая «Ла-Франс», Жанна, тебе она понравится»; но венцом и гордостью сада был большой ясень, ветви которого с помощью проволоки образовывали свод. Дома у Селии ничего похожего на ясень не было, и Селия взирала на него, как на одно из чудес света. Потом там был еще высоченный стульчак в уборной, сработанный по-старинному, из красного дерева. Удаляясь туда после завтрака, Селия видела себя восседающей на троне королевой и, надежно укрывшись за запертой дверью, отвешивала царственные поклоны, протягивала руку для поцелуя воображаемым придворным и, насколько хватало духу, растягивала сцены из придворной жизни. Кроме того была бабушкина кладовка, расположенная рядом с выходом в сад. Каждое утро, звеня огромной связкой ключей, в кладовку наведывалась бабушка, и с той пунктуальностью ребенка, собаки или льва, знающих час кормления, туда приходила и Селия. Бабушка давала ей сахар в пакетиках, масло, яйца или варенье в банке. Затем подолгу, не без ядовитости пререкалась со старой Сэрой, кухаркой. Как непохожа была Сэра на Раунси. Тощая-претощая, тогда как Раунси была толстухой. Маленькая старушка со сморщенным личиком и ввалившимся беззубым ртом. Пятьдесят лет своей жизни прослужила она у бабушки, и все эти годы шли одни и те же пререкания. Сахар переводится сверх всякой меры, куда подевались оставшиеся полфунта чая? К этому времени пререкания превратились уже в своеобразный ритуал — бабушка каждодневно разыгрывала роль рачительной хозяйки. Слуги все готовы промотать. За ними нужен глаз да глаз. Закончив ритуал бабушка будто впервые замечала Селию.
— Боже мой, боже мой, что же здесь делает малышка?
И бабушка изображала величайшее удивление.
— Так, так, — говорила она, — уж не хочется ли тебе чего-нибудь?
— Хочется, бабушка, хочется.
— Так, сейчас посмотрим. — И бабушка, не торопясь, рылась в глубине кладовки. Что-нибудь она непременно извлекала — банку с черносливом, палочку дягиля, банку айвового варенья. Для малышки обязательно что-нибудь находилось.
Бабушка была очень красивой пожилой дамой. Кожа у нее была розово-белой, две белые, как лунь, букольки обрамляли ее лицо, и у нее был большой добродушный рот. Сложения бабушка была величественно-дородного, с высоким бюстом и внушительными бедрами. Платья она носила из бархата или парчи, с широкой юбкой и обтянутой талией.
— У меня всегда была прекрасная фигура, душечка, — обычно говорила она Селии. — Фэнни — сестра моя — была в семье самой хорошенькой, но у нее не было фигуры — совсем никакой! Плоская как доска. Когда я оказывалась рядом, ни один мужчина на нее больше не смотрел. Фигура, вот что интересует мужчин, а не лицо.
«Мужчины» в бабушкиных разговорах занимали важное место. Она получила воспитание в те времена, когда мужчины считались центром мироздания. Женщины же существовали, только чтобы прислуживать этим великолепным созданиям.
— Не было мужчины красивее, чем мой отец. Высоченный, шести футов ростом. Мы дети все его боялись. Очень строгий был.
— А твоя мама, бабушка, какая была?
— Ах, бедняжка. Умерла, когда ей было всего тридцать девять. Осталось нас десять детей. Полон дом голодных ртов. Когда рождался ребеночек и она лежала в постели…

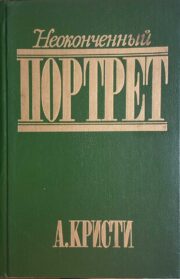




"Неоконченный портрет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Неоконченный портрет", автор: Агата Кристи. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Неоконченный портрет" друзьям в соцсетях.