Проходя мимо Смолвуда, она споткнулась. Он протянул руку, то ли чтобы поддержать, то ли чтобы оттолкнуть ее, и, прежде чем он понял, что происходит, — меньше всего он ожидал, что такое покорное существо может оказать ему сопротивление, — она в слепом порыве выбила у него из рук пистолет, и он упал в снег, вертясь как волчок. Смолвуд спрыгнул вниз и бросился за ним с быстротой кошки, но он мог бы и не спешить: даже если бы у кого-нибудь из нас и возникла мысль воспользоваться ситуацией, предостерегающее рычание вооруженного Коразини убило бы ее в зародыше.
Смолвуд подхватил свой пистолет и стремительно повернулся, прицелившись в Елену. Глаза его сузились, лицо исказилось до неузнаваемости, из оскаленного рта вырвалось хриплое рычание. Я еще раз ошибся насчет Смолвуда: он был способен и на безрассудное убийство.
— Елена! — Мисс Денсби-Грегг оказалась ближе всех к Елене, и ее голос зазвенел на высокой ноте, почти пронзительным криком. — Берегись, Елена! — Она бросилась к ней, чтобы оттолкнуть ее в сторону, но я не думаю, что Смолвуд ее видел. Он просто обезумел от ярости, был вне себя. Я видел, что никакая сила не помешает ему спустить курок. .. Пуля попала в спину мисс Денсби-Грегг и уложила ее лицом вниз на обледеневший снег.
Смолвуд мгновенно опомнился, приступа бесконтрольной ярости как не бывало. Он не сказал ни слова, только кивнул Коразини и, вскочив в кузов, снова направил на нас прожектор и дуло пистолета. Мы стояли как потерянные и следили, как весь этот поезд прошел мимо — тягач, грузовые сани, вторые собачьи сани и, наконец, наши собаки, бежавшие по бокам на свободных постромках.
Я услышал, как Елена что-то шепчет про себя, и, нагнувшись, уловил несколько слов, повторяемых странным, удивленным тоном: «Елена... Она назвала меня Еленой...» Я взглянул на нее как на сумасшедшую, посмотрел на убитую женщину, лежащую у моих ног, и уставился невидящим взглядом на удаляющиеся огни «ситроена», пока и огни, и звуки мотора не исчезли в насыщенной снегом тьме ночи.
Глава 11
Белый ад этой ночи, мучение долгих жестоких часов, а сколько их было, одному Богу известно — вот воспоминание, которое всегда будет жить в нашей памяти.
Сколько часов мы шли по следам тягача, шатаясь и спотыкаясь, как пьяные или умирающие? Шесть, восемь, десять?.. Мы этого не знали и никогда не узнаем. Время перестало существовать. Каждая секунда была бесконечной единицей страданий, холода, иссякающих физических усилий. Каждая минута — эрой, когда невозможно было сказать, что мучительней: боль, обжигающая огнем ножные мышцы, или боль, сводившая ледяным холодом руки, ступни и лицо. Каждый час представлял собой вечность, которой, как мы знали, не будет конца. Я уверен, никто из нас не надеялся пережить эту ночь.
Впоследствии я никогда не мог передать те мысли и эмоции, которые тогда владели мной. Досада, самая горькая досада, какой я никогда не испытывал, глубокое чувство унижения и самоосуждения из-за того, что меня так долго и легко обманывали, как мальчишку, и что я оказался не в силах ни помешать, ни сопротивляться неистощимой находчивости этого блестящего тихони. А потом я подумал о мисс Денсби-Грегг и о том, что Маргарет — заложница, сидит сейчас со связанными руками в тряском кузове тягача и при тусклом свете лампочки со страхом смотрит на Смолвуда с пистолетом. При этой мысли во мне вскипел гнев. Жгучая ненависть и ярость пламенем охватили все мое существо, но даже эти чувства не могли заглушить чуждого мне прежде чувства страха, который теперь доминировал над всеми другими. Он прочно поселился у меня в душе.
Такой же страх, я думаю, испытывал и Веджеро. После гибели мисс Денсби-Грегг он не проронил ни слова, с полным равнодушием он делал все необходимое. Наклонив голову, он, как автомат, брел вперед. Вероятно, не раз он пожалел о той минуте, когда в стычке со Смолвудом у него с языка сорвалось признание в том, что Солли Ливии — его отец.
Джекстроу весь ушел в себя, нарушая молчание лишь по необходимости и ничем не выдавая своих мыслей. Осуждал ли он меня за происшедшее? Не думаю, это было не в его натуре. Я догадывался, о чем он размышляет, ведь я знал, какой взрывной темперамент дремлет под этой невозмутимой внешностью. Если бы мы тогда встретили Смолвуда и Кора-зини без пистолетов, я почти не сомневаюсь, что мы убили бы их собственными руками.
Я полагаю, что все мы трое находились на пределе человеческих сил, обмороженные, покрытые кровоподтеками, мучимые жаждой и неуклонно слабеющие от голода. Я сказал «полагаю», ибо логика и разум говорят мне, что иначе и быть не могло. Едва ли какие-нибудь конкретные обстоятельства доходили в ту ночь до нашего сознания. Мы перестали быть самими собой, мы как бы вышли из собственной оболочки. Наши тела механически подчинялись требованиям ума, а ум каждого из нас был настолько поглощен тревогой и гневом, что в нем не оставалось места ни для каких других мыслей.
Мы шли по следам тягача. Мы могли, я думаю, и повернуть обратно в надежде наткнуться на Хилкреста и его товарищей. Я достаточно хорошо знал Хилкреста и был уверен, что он догадался: разоблаченные нами преступники никогда не рискнут направиться в Аплавник, а почти наверняка устремятся к побережью. Весьма вероятно, что Хилкрест тоже возьмет курс на фиорд Кангалак, поскольку этот фиорд с примыкающим к нему заливчиком был единственным выходом к морю, единственным местом на протяжении сотен миль скалистого побережья, где можно пристать к берегу. И Хилкрест мог отправиться туда напрямик: у себя на тягаче он имел пробный экземпляр нового, еще не поступившего на рынок гироскопа, специально предназначенного для наземного пользования. Прибор оказался столь удивительно точным, что проблема ориентации на ледниковом плато просто перестала для Хилкреста существовать.
Но наши шансы встретиться с ним в такую вьюгу были равны нулю, а если бы мы не встретились, наша гибель была бы неизбежной.
Целесообразнее было идти к побережью, где нас мог подобрать какой-нибудь патрулирующий корабль или самолет, если, конечно, мы сумеем добраться до побережья. К тому же я, так же как Джекстроу и Веджеро, действовал под влиянием одной неодолимой мысли: преследовать Смолвуда и Ко-разини, пока хватит сил.
Но дело в том, что мы и не могли идти в другом направлении, даже если бы захотели свернуть в сторону. Когда Смолвуд бросил нас, мы находились уже в постепенно углубляющейся впадине, которая, беря начало на плато, извилистой долиной опускалась в сторону Кангалакского ледника. Уже тогда весьма ощутимый, ветер достиг ураганной силы, и впервые за время пребывания на гренландском плато я слышал ветер, который не стонал. Он выл и вопил, как воет шторм в верхних снастях корабля, и нес с собой парализующую и колючую стену снега и льдинок, которая и обрушилась на нас.
Мы шли в единственно возможном направлении, все время ощущая удары бури на наших согнутых, ноющих спинах.
И как они ныли, наши спины! Из нас только трое — Джекстроу, Веджеро и я — могли нести что-либо, кроме собственного веса. Остальные трое вообще не могли идти. Малер был без сознания, все еще находясь в состоянии комы, и я не надеялся, что он долго пробудет с нами. Веджеро нес его сквозь этот белый кошмар и за свою самоотверженность жестоко поплатился. Когда несколько часов спустя я осмотрел замерзшие, бесполезные придатки, которые когда-то были его руками, я понял — Джонни Веджеро никогда уже не выйдет на ринг.
Мари Ле Гард тоже потеряла сознание, и когда я спотыкаясь нес ее на руках, то чувствовал, что это не более чем тщетный символический жест: если мы не найдем в ближайшие же часы крова, она никогда не увидит утра. Елена выбилась из сил через час после того, как тягач скрылся из вида: ее хрупкая натура не выдержала, и Джекстроу пришлось взвалить ее на плечо. Я не понимаю, как нам, обессиленным, истощенным, почти до смерти окоченевшим, удалось так долго нести их, даже с частыми остановками. Очевидно, Веджеро помогала его физическая сила, Джекстроу — его удивительное умение приспосабливаться к условиям, а мне — чувство ответственности, которое все еще жило во мне. Оно-то и поддерживало меня все эти долгие часы, когда мои руки и ноги уже отказывались служить.
Позади нас плелся сенатор Брустер, замкнувшись, часто спотыкаясь, иногда падая, но всегда поднимаясь и мужественно ковыляя дальше. В эти часы Брустер перестал быть для меня сенатором и вновь превратился в моего воображаемого «полковника Дикси», но не надменного, властного аристократа, а в воплощение давно канувшего в прошлое южного рыцарства. Снова и снова в ту жестокую ночь он настаивал, упорно настаивал на том, чтобы ему дали нести нашу ношу, и тогда, шатаясь под ношей, брел, пока не выбивался из сил. Несмотря на возраст, он был крепким человеком, но его сердце, легкие и кровеносные сосуды уже не могли сравниться с его мышцами. Вид его страданий вызывал все большую жалость. Налитые кровью глаза полузакрылись от изнеможения, лицо посерело и покрылось глубокими морщинами, и он дышал с болезненными, хриплыми звуками, которые я слышал даже сквозь вой ветра.
Несомненно, Смолвуд и Коразини сознательно обрекли нас на смерть, но они допустили одну ошибку: забыли о Балто.
Балто, как всегда, бегал без привязи, и они, когда нас бросили, то ли не заметили его, то ли просто забыли о его существовании. А Балто, должно быть, почувствовал что-то неладное, так как все время, пока мы были пленниками, он ни разу не приблизился к нам.
Но как только тягач скрылся из вида, он, петляя, вдруг появился из снежного облака и выступил в своей роли проводника — повел нас по направлению к береговому леднику. По крайней мере, мы надеялись, что Балто бежит по следам, оставленным тягачом, хотя эти следы уже глубоко занесло снегом. Веджеро не разделял этой уверенности. Несколько раз в эту ночь я слышал, как он бормотал: «Черт возьми, надеюсь, этот пес знает, куда ведет».


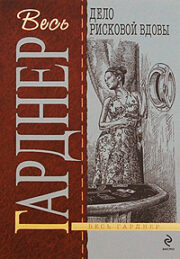


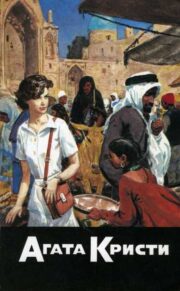
"Настоящая партнерша" отзывы
Отзывы читателей о книге "Настоящая партнерша", автор: Картер Браун. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Настоящая партнерша" друзьям в соцсетях.