— Не знаю, что там находится к услугам Смолвуда, — с горечью заметил я. Теперь настало время мне сокрушенно качать головой. — Теперь-то все ясно, слишком ясно: Коразини повредил руку не потому, что хотел спасти радиоприемник, а наоборот. Это он столкнул его с петель и тем самым ускорил его падение. Ясно теперь, почему он проиграл, когда бросили жребий, кому спать на койках. Ему надо было спать на полу, чтобы задушить второго пилота.
— Это называется выигрышный проигрыш, — угрюмо заметил Веджеро, криво усмехнувшись. — Помните, как мы хоронили второго пилота? Интересно, как бы звучала надгробная молитва Смолвуда, если бы мы стояли достаточно близко и слышали, что он бормочет?
— Я упустил из виду этот момент, — сказал я. — Я упустил из виду и ваше предложение, когда мы вернулись в самолет. Помните, как вы сказали, что нам надо похоронить умерших? Но вы же не знали, что они убиты! Если бы вы были виновны, вы бы никогда не осмелились предложить такое, потому что мы тогда почти наверняка обнаружили бы причину их смерти.
— Вы упустили! — с чувством проговорил Веджеро. — А я! Ведь это я предложил, а потом ни разу об этом не вспомнил! Только сейчас, когда вы об этом сказали. — Он почти зарычал от досады. — Как я себя презираю! Единственное, что я знал, а вы не знали, насколько я теперь понимаю, это то, что Коразини дал в зубы нашему другу Смолвуду, помните, в ущелье? Специально для того, чтобы подозрение пало на меня, а не на него. Но даже если бы я тогда попытался оправдаться, вы бы мне не поверили.
Наступило долгое молчание. Мы сидели и слушали, как порывы ветра то заглушают, то как бы подхватывают звук выхлопов двигателя. Потом Солли Ливии сказал:
— А самолет, как он загорелся?
— В его баках хватило бы горючего, чтобы обеспечить продвижение тягача на две тысячи миль, — ответил я. — Если бы Хилкресту, когда он вернулся на станцию, не хватило горючего и он обнаружил, что бензин в туннеле приведен в негодность, ему бы ничего не стоило перекачать горючее из самолета в свой тягач. Значит, самолет надо было уничтожить.
На этот раз молчание было еще более долгим, потом Веджеро откашлялся, не зная, с чего лучше начать.
— Уж раз дело дошло до объяснений, я думаю, что пора и нам кое-что объяснить... — К моему удивлению, он был явно смущен. — Я насчет фальшивого поведения этого фальшивого типа слева от вас, некоего Солли Ливина, у нас была уйма времени обсудить все это, когда мы сидели прошлой ночью в этих проклятых санях...
— Ближе к делу! — нетерпеливо перебил я его.
— Простите. — Он нагнулся к Солли Ливину. — Представить тебя официально, а, па?
Я уставился на него в темноте.
— Я не ослышался?
— Никоим образом, док. — Он тихо засмеялся. — Папа. Старина. Родитель. Так сказать, в моем свидетельстве о рождении и вообще. — Он искренне наслаждался эффектом своих слов. — Подтверждение сидит справа от меня.
— Это истинная правда, доктор Мейсон. — Солли Ливии улыбнулся. Вульгарный акцент совершенно исчез из его речи, сменившись более сухой, более сдержанной интонацией Веджеро. — Я буду краток. Я — владелец и директор, вернее, был директором, пока не ушел в отставку год тому назад, фабрики пластмасс в Трентоне, штат Нью-Джерси, неподалеку от Принстона, где Джонни ухитрился получить великолепное произношение и почти ничего другого. Должен сказать, что виной этому не университет: большую часть времени Джонни проводил в спортивном зале, нянчась со своими... гм... боксерскими наклонностями. К моему большому неудовольствию, так как я хотел видеть в нем своего наследника.
— Увы, — вставил Веджеро, — я был почти так же упрям, как он.
— Гораздо более упрям, — возразил его отец. — Поэтому я и предложил ему следующее: я даю ему два года, вполне достаточный срок, поскольку он был уже хотя и любителем, но приличным бойцом тяжелого веса, и, если окажется, что он не добьется своего, он поступит служащим на фабрику. Его первый менеджер оказался продажным и развращенным типом, среди них это часто бывает, и в конце первого года Джонни буквально вышвырнул его. Вот я и решил занять его место. Я как раз вышел на пенсию, делать мне было нечего, я вложил в его спортивное дело солидную сумму, чтобы обеспечить его благополучие, поскольку он мой кровный сын. И, откровенно говоря, я начал понимать, что он действительно может подняться на высоту.
Он сделал паузу, и я воспользовался ею.
— Так какова же все-таки ваша фамилия, Веджеро или Ливии?
— Веджеро, — ответил отец.
— А откуда Ливии?
— Некоторые национальные и государственные комитеты боксеров не разрешают близким родственникам быть менеджерами или секундантами. Вот мне и пришлось взять псевдоним. Случай отнюдь не редкий, и официальные лица смотрят на это сквозь пальцы. Безобидный обман.
— Не такой уж безобидный, — угрюмо сказал я. — Это была одна из худших имитаций, какие я когда-либо видел, а поэтому одна из главных причин, почему я заподозрил вашего сына и почему, в свою очередь, Коразини и Смолвуду удалось все, что они хотели. Скажи вы об этом раньше, я бы понял, даже без особых доказательств, что только они и могут быть преступниками. Но имея перед собой Солли Ливина, боюсь, мне еще придется привыкать видеть в вас мистера Веджеро, Солли Ливина, который был, как дважды два, явной подделкой, я просто не мог исключить вас из черного списка.
— Очевидно, я взял за образец не ту личность или не тот тип личности, — уныло проговорил Ливии. — Джонни все время упрекал меня за это. Я глубоко сожалею, доктор Мейсон, что мы доставили вам так много неприятностей. Откровенно говоря, я ни разу не посмотрел на это дело с вашей точки зрения, не сознавал, какую опасность навлекаю на вас своим перевоплощением, если можно так выразиться. Простите меня.
— Мне не за что вас прощать, — с горечью проговорил я. — Сто против одного, что я нашел бы какой-нибудь способ все испортить.
В шестом часу вечера Коразини остановил тягач, но мотора не выключил. Выйдя из кабины, он подошел к заднему борту кузова и слегка сдвинул прожектор в сторону. Ему пришлось кричать, чтобы перекрыть рев тягача и пронзительные, жалобные завывания поднявшейся вьюги.
— Пройдено полпути, босс. Тридцать две мили по стрелке.
— Спасибо. — Мы не могли разглядеть Смолвуда, но зато хорошо видели кончик пистолетного ствола, угрожающе высунувшегося в луче прожектора. — Приехали, доктор Мейсон! Вылезайте! Вы и ваши друзья!
Делать было нечего. Едва двигаясь от холода и долгого сидения в санях, я вышел и направился к Смолвуду, но остановился, увидев нацеленный мне в грудь пистолет.
— Через несколько часов вы будете у своих друзей, — сказал я Смолвуду. — Вы могли бы оставить нам немного еды, переносную плитку и палатку. Я прошу немного.
— Много.
— Значит, ничего? Совсем ничего?
— Вы напрасно теряете время, доктор Мейсон. А потом, меня огорчает, что вы снисходите до просьб.
— Ну, тогда хотя бы сани для упряжки. Мы даже не просим собак. Ни Малер, ни мисс Ле Гард не в состоянии самостоятельно передвигаться.
— Я вам сказал: вы напрасно теряете время. — Он переключил свое внимание на сидевших в санях. — Я же сказал, всем выйти! Вы меня слышали, Ливии? Вылезайте!
— Если бы не ноги... — В ярком свете прожектора мы видели морщины боли, прорезавшиеся вокруг его глаз и рта, и я невольно поразился его терпению: он так долго сидел мучаясь, но ни одним словом не выдал своих страданий. — Не то они замерзли, не то онемели. Что-то в этом роде.
— Слезайте! — резко повторил Смолвуд.
— Сию минуту! — Ливии перекинул одну ногу через край саней, крепко сжав зубы от боли. — Кажется, я не в состоянии. ..
— Может быть, пуля в ногу поможет? — равнодушно спросил Смолвуд. — Восстановит чувствительность?
Я не знал, шутит ли он или говорит серьезно. Во всяком случае, состояние Ливина его не интересовало. Но Веджеро думал иначе. Он остановился недалеко от Смолвуда.
— Только попробуйте тронуть его, Смолвуд! — угрожающе проговорил он.
— Вот как? — Повышение тона означало, что вызов принят. — Да я вас обоих в порошок сотру!
— Ничего не получится, Смолвуд! — яростно прошипел Веджеро, и слова его отчетливо прозвучали в неожиданно наступившем затишье. — Попробуйте тронуть моего старика хоть пальцем, и я переломлю вам шею, как гнилую морковку, даже если вы выпустите в меня всю обойму.
Я посмотрел на него. Он пригнулся, как большая кошка, уперев носки ног в мерзлый снег, сжав кулаки и слегка выставив их вперед, готовый к прыжку. И я поверил, что он способен на это: видимо, поверил в это и Смолвуд.
— Вашего старика? — переспросил он. — Отца, что ли?
Веджеро кивнул.
— Отлично! — Смолвуд не выказал никакого удивления. — В кузов его, Веджеро. Он заменит нам немку, она никому не нужна.
Смысл приказа всем был ясен. Я, правда, не видел, какую опасность может представлять Веджеро для Смолвуда и Коразини, но Смолвуд был человеком, предусматривающим даже невозможные варианты. Ливии был более надежной гарантией хорошего поведения Веджеро, чем Елена.
Ливина не столько ввели, сколько внесли в кузов. Сопротивляться вооруженным преступникам было делом безнадежным. Смолвуд рассчитал все точно. Он знал, что мы — люди отчаянные и в минуту крайности можем броситься на него, невзирая на оружие. Но знал и то, что мы не настолько отчаянные, чтобы пойти на самоубийство, если ничьей жизни не грозит непосредственная опасность.
Когда Ливии очутился в кузове, Смолвуд повернулся к Елене, сидевшей напротив него.
— Выходите!
Вот тогда это и случилось с ошеломляющей быстротой и неожиданностью. Я тогда подумал, что Елена действовала по заранее обдуманному плану, пытаясь в последнюю минуту спасти нас, но позднее понял, что все было проще. Это был взрыв исступленного гнева, возмущения и отчаяния, до которого ее довела мучительная боль в плече, так как она долго просидела со связанными руками, в то время как ее трясло и качало на деревянном полу кузова.


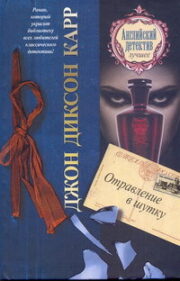
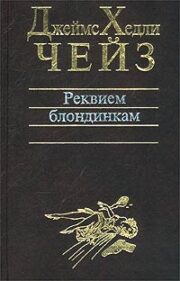
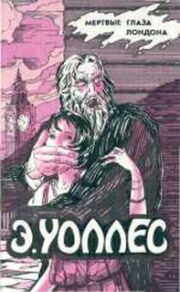

"Настоящая партнерша" отзывы
Отзывы читателей о книге "Настоящая партнерша", автор: Картер Браун. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Настоящая партнерша" друзьям в соцсетях.