Встав на колени, он начал обвязывать шпагатом мои ноги у щиколоток, как вдруг мне пришло что-то на ум. Я пинком оттолкнул Коразини и вскочил на ноги.
— Нет, Смолвуд! — Голос мой прозвучал как-то дико и хрипло. — Клянусь Богом, вы меня не свяжете!
— Сесть, Мейсон! — Его голос был жестким и резким, как удар хлыста, и при свете, падавшем из кузова, я увидел дуло пистолета, направленное мне в лицо. Но я не обратил на это внимания.
— Джекстроу! — крикнул я. — Веджеро, Ливин, Брустер! Вставайте, если хотите жить. У него только один пистолет. Если он выстрелит в одного из нас, другие успеют на него броситься. Он не может убить всех сразу... Маргарет, Елена, мисс Денсби-Грегг, при первом же выстреле бегите в темноту и не показывайтесь оттуда!
— Вы спятили, док! — вырвалось у изумленного Веджеро. Но мой голос заставил его вскочить на ноги и приготовиться к прыжку. — Хотите, чтобы нас перестреляли?
— Как раз этого я и не хочу! — Я чувствовал, как у меня по спине и затылку побежали мурашки, и вовсе не от арктического холода. — Связать нас и бросить одних, как бы не так! Почему, вы думаете, он рассказал нам про траулер? Про подводную лодку и все прочее? Я скажу вам: потому что он решил, что никто из нас не выживет и не расскажет об этом. — Я выпалил эти слова со скоростью пулемета в отчаянной надежде убедить остальных в их истинности. И мои глаза не отрывались от пистолета в руке Смолвуда.
— Но...
— Никаких но! — резко оборвал я. — Смолвуд знает, что Хилкрест сегодня будет здесь. И если он найдет нас, да еще живыми, мы сможем рассказать ему о маршруте Смолвуда. И тогда через час Кангалакский ледник будет на замке, а бомбы с «Тритона» сотрут его в порошок. Связать нас! Ну конечно! А потом бы он и Коразини не спеша расстреляли нас, и мы бы падали, трепыхаясь, как птицы с перебитыми крыльями.
Эффект моих слов был немедленным и полным. Мне не видны были лица остальных, но я заметил, что пистолет в руке Смолвуда чуть-чуть опустился.
— Я недооценивал вас, доктор Мейсон, — мягко проговорил он. В его тоне не было и намека на гнев или раздражение. — Но вы чуть было не превратились в труп!
— Какая разница, сейчас или через десять минут? — ответил я, и Смолвуд рассеянно кивнул. Он уже обдумывал возможности другого выхода.
— Вы... вы бесчеловечное чудовище! — Голос сенатора Брустера прервался от гнева и страха. — Вы хотели связать нас и перебить, как... как... — На мгновение он смолк, не находя слов, а потом прошептал: — Должно быть, вы просто сумасшедший, Смолвуд, настоящий сумасшедший!
— Ничуть, — спокойно проговорил Веджеро. — Он не безумец. Он просто человек без души. Впрочем, иногда трудно провести грань между первым и вторым... Ну как, придумали для нас другую хорошенькую схемку, Смолвуд?
— Придумал... Как сказал доктор Мейсон, мы не сможем разделаться со всеми вами за две секунды, а за это время один из вас, а то и больше, смогли бы укрыться в темноте. — Он кивнул в сторону саней, поднял воротник, пытаясь защититься от снега и ветра. — Думаю, что вам лучше еще немного проехать с нами...
И мы проехали еще немного, тридцать самых длинных миль в моей жизни. И это длилось около девяти часов, которым, казалось, не будет конца. Это было сравнительно небольшое расстояние, но, чтобы покрыть его, ушла целая вечность: отчасти из-за заструг, отчасти из-за участков рыхлого снега, которые становились все длиннее, но больше всего из-за быстрого ухудшения погоды. Скорость ветра теперь была более тридцати миль в час, он нес с собой стену поземки с ледяными кристаллами и, хотя дул нам в спину, сильно затруднял задачу водителя.
Для всех остальных, кроме Смолвуда, ветер создавал невыносимые условия, и, будь температура такой, какой она была сутки назад, я уверен, что никто из нас не пережил бы этого путешествия.
Я подумал, что, если Смолвуд и Коразини будут поочередно вести тягач, причем один из них будет выверять по компасу путь, сидя в санях (как делали Джекстроу и я), у нас будет хотя бы один слабый шанс одержать над ними верх или, по крайней мере, осуществить побег. Но Смолвуд ни разу не предоставил нам и тени надежды. Коразини все время оставался за рулем, надев наушники радиопеленгатора, и управлял с помощью компаса. Смолвуд устроился в одиночку у заднего борта кузова, а мы теснились на грузовых санях в десяти ярдах от него. Когда же снежная пелена стала слишком плотной, он остановил тягач, открепил прожектор и установил его, повернув в нашу сторону.
Это дало ему двойное преимущество. Во-первых, он мог ясно видеть нас даже сквозь гонимый ветром снег и быть уверенным, что никто не соскочил с саней, и, во-вторых, ослепить нас настолько, чтобы мы не в состоянии были сказать, что он делает и следит ли за нами. Это было пыткой, сводило с ума, и, чтобы предотвратить любую отчаянную попытку к бегству под покровом гонимых ветром туч снега, он посадил Маргарет и Елену в кузов, связав им руки. В качестве заложниц они были гарантией нашего хорошего поведения.
Таким образом, в санях нас было восемь. Теодор Малер и Мари Ле Гард лежали посередине, а мы трое сидели по бокам. Как только мы тронулись и натянули на себя два куска брезента, стараясь спрятаться под ним от ветра и снега, Джекстроу перегнулся и каким-то предметом, который был у него в руке, похлопал меня по плечу. Я взял у него этот предмет.
— Бумажник Коразини, — сказал он, невольно понизив голос, хотя Смолвуд не услышал бы даже крика, потому что все покрывали грохот мотора и ураганный рев ветра. — Выпал из кармана, когда Веджеро сбил его с ног. Он не заметил, зато я видел и сидел на нем, пока Смолвуд держал нас на снегу.
Я снял рукавицы, открыл бумажник и при свете фонарика обследовал его содержимое. Луч фонарика затенялся специальным колпачком, так что ни одна полоска света не выскользнула из-под брезента. Это было еще до того, как Смолвуд перенес в кузов прожектор.
Содержимое бумажника доказывало, как тщательно и продуманно эти два человека обеспечили себе фальшивые документы. Инициалы «Н. К.» на бумажнике, визитные карточки с именем «Николас Коразини» над адресом управления «Глобальной тракторной компании» и чековая книжка, на которой в верхнем левом углу стояло то же имя — «Н. Коразини». Все это выглядело чрезвычайно убедительно.
В одном из отделений бумажника была аккуратно сложена та газетная вырезка, которую я впервые обнаружил в кармане убитого полковника Гаррисона. Теперь я прочел ее вслух, медленно и с чувством глубокой досады.
Автор был краток. Уже из первого беглого просмотра заметки в самолете я знал, что речь идет о том страшном случае под Элизабет в штате Нью-Джерси, когда поезд, взлетев на мост, провалился сквозь поднятый пролет в водь} реки и десятки пассажиров утонули. Но как я тогда понял,’ акцент был не на этом и репортер не стал тратить времени на страшные детали: его интересовало, как я теперь увидел, совершенно другое. Из достоверных сообщений стало известно, — писал он, — что в поезде ехал армейский курьер, что он был одним из сорока погибших и вез сверхсекретный механизм управляемого снаряда.
Больше в заметке ничего не было, но и этого было достаточно. В ней не было сказано, утерян этот механизм или нет, и, конечно, не было и намека на связь между наличием этого механизма в поезде и причинами катастрофы. Но бросающаяся в глаза близость этих двух моментов невольно заставляла читателя сделать страшный вывод.
Долгое молчание, воцарившееся после того, как я прочел последнее слово, показывало, что мои слушатели пришли к тому же ошеломляющему заключению, что и я. Первым прервал молчание Джекстроу, он проговорил каким-то неестественным деловым тоном:
— Ну, теперь мы знаем, почему вас стукнули по голове.
— Стукнули по голове? — встрепенулся Веджеро. — Что вы несете...
— Меня стукнули позавчера ночью, — объяснил я. — Тогда я сказал вам, что ударился о фонарный столб.— И я рассказал им, как нашел газетную вырезку и как ее лишился.
— А что бы изменилось, если бы вы ее прочли? — спросил Веджеро. — То есть...
— Очень многое! — Я прервал его резко, почти свирепо, но эта резкость относилась ко мне самому, к моей глупости. — Ведь я нашел заметку о трагической катастрофе, происшедшей при странных и необъяснимых обстоятельствах, в кармане у человека, погибшего во время катастрофы при таких же странных и необъяснимых обстоятельствах. Уже сам факт вызвал бы у меня подозрения, даже у меня. А когда я услышал от Хилкреста, что на самолете везли что-то очень секретное, параллель стала бы просто вопиющей, особенно потому, что эта заметка находилась в кармане кадрового офицера. Почти наверняка он и был курьером и вез этот секрет. Я бы тогда исследовал каждый ящичек, каждую коробку в вашем багаже, включая радиоприемник и магнитофоны. Практически исследовал бы все, что хоть немного больше спичечного коробка... И Смолвуд знал, что так оно и было бы. Он не знал, что именно говорилось в заметке, но они с Коразини не хотели допускать никакой случайности.
— Вы же не могли об этом знать, — сказал Ливии, пытаясь подбодрить меня. — Вы не виноваты.
— Еще как виноват, — возразил я, чувствуя глубокую усталость. — Кругом виноват. Не знаю даже, как замолить свои грехи. Прежде всего перед вами, Веджеро, и за то, что связал...
— Забудьте об этом. — Голос Веджеро прозвучал сдержанно, но дружелюбно. — Мы тоже хороши! Все факты, имеющие значение, были известны нам так же, как и вам, а что мы сделали? Еще меньше, чем вы. — При слабом свете фонарика я увидел, как он сокрушенно качает головой. — О Боже мой, почему так хорошо понимаешь тот или иной факт, когда слишком поздно? Теперь ясно, почему мы рухнули неизвестно где. Должно быть, пилот сделал все, что мог. Он, видимо, знал, что везет секретный механизм, и решил, что лучше рискнуть жизнью пассажиров, но приземлиться в центре ледяного плато, откуда Смолвуд никогда не доберется до побережья.


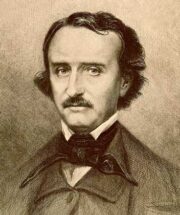
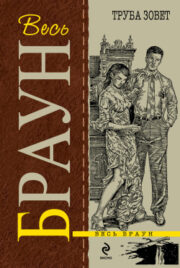
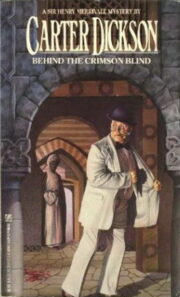

"Настоящая партнерша" отзывы
Отзывы читателей о книге "Настоящая партнерша", автор: Картер Браун. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Настоящая партнерша" друзьям в соцсетях.