Долгий мучительный день, сплошь наполненный холодом, бесконечными страданиями и терзающим грохотом двигателя, который тащился, как смертельно раненный человек. Около двух тридцати, когда последний отблеск полудня угас, а в далеком холодном небе отчетливо выступили звезды, температура упала до самой низкой точки, до устрашающих семидесяти трех градусов ниже нуля. Именно теперь начали происходить необычные вещи: фонари, вынутые из-под парки, через минуту гасли, резина приобретала твердость дерева и трескалась тоже как дерево, пар изо рта превращался в плотное белое облако и окутывал голову того, кто решался вылезти из кузова, плато замерзло до такой небывалой степени, что гусеницы тягача скользили и сворачивали то в одну, то в другую сторону, оставляя на обледеневшей поверхности едва видимые, тонкие, как волоски, отметины. Собаки, спокойно выдерживающие пургу и бураны, которые могли бы убить человека, теперь скулили и завывали, безмерно страдая от этого ужасного мороза, и время от времени, подобно роковому голосу, возвещающему о близкой кончине мира, над ледяной равниной проносился как эхо глухой звук, а под гусеницами тягача содрогалась почва: это обширные площади снега и льда сжимались еще плотней в железной деснице леденящего холода.
Именно теперь тягач, как и следовало ожидать, начал причинять нам неприятности: удивительно, что этого не случилось раньше. Больше всего я боялся, что какая-нибудь металлическая часть, став хрупкой под действием холода, треснет или переломится.
К счастью, эта смертельная опасность нас пока обходила стороной. Но то, что происходило, было немногим лучше. Постоянной проблемой был лед в карбюраторе. Руль все время замерзал, приходилось отогревать его паяльной лампой. Но самые серьезные неприятности доставлял наш радиатор. Несмотря на то, что мы плотно обложили его утепляющим материалом, холод проникал сквозь утепление, словно это была папиросная бумага, и вызывал сжатие металла. В результате радиатор дал течь. К трем часам дня потеря воды достигла ужасающей степени. Я выделил для ног Малера несколько наших резервных грелок, распорядившись, чтобы вода из растопленного в ведрах снега шла исключительно для радиатора. Но даже с применением паяльной лампы, в добавление к теплу печки, растапливание смерзшегося снега — процесс удручающе медленный, и вскоре мы вынуждены были наливать в радиатор наполовину растаявшую снежную массу, а под конец просто набивать его снегом, лишь бы двигаться вперед. Все это было весьма плачевно, но особенно неприятным был тот факт, что из-за этих операций антифриз в радиаторе все больше разбавлялся водой, и, хотя у нас был небольшой резервный бачок, с каждой последующей остановкой вес его содержимого заметно убывал.
Уже несколько часов мы обходились без наблюдателя, и бремя этой обязанности легло на водителя, то есть на Джекстроу, Веджеро, Коразини и меня.
Из всех четверых Джекстроу был единственным, кто избежал травм, которые, как я знал, оставили бы неизгладимые следы в виде шрамов и повреждений ткани. Веджеро, на котором его профессия не оставила своей печати, явно шел к тому, чтобы быть отмеченным другим способом. Мы слишком поздно поставили ему холодный компресс на правое ухо, и теперь поврежденные ткани требовали пластической операции. У Коразини слишком долго оставались без лечения два пальца на ноге, и я знал, что это кончится хирургической палатой; а у меня, поскольку я больше других возился с двигателем, кончики пальцев превратились в кровоточащую массу, а ногти почернели и уже начали разлагаться.
Положение тех, кто оставался в кузове, было немногим лучше. У них уже начали проявляться первые физиологические симптомы воздействия холода: почти непреодолимое желание спать, вялое равнодушие ко всему, что происходит вокруг. Позже появляется бессонница, анемия, расстройство пищеварения, нервозность, которая может привести к безумию, если этот мороз продержится достаточно долго. Все это я видел всякий раз, когда после очередного дежурства за рулем возвращался в кузов, к мучительной процедуре восстановления кровообращения.
Много раз приходилось мне видеть одну и ту же картину. Сенатор сидел, сгорбившись в углу, настоящий мертвец, если бы не судорога, Бременами передергивающая его тело. Малер, по всей видимости, спал. Мисс Денсби-Fperjr и Елена лежали обнявшись. «Почти невероятное зрелище, — подумал я, — но ведь, исключая саму смерть, Арктика великий уравнитель». Я не очень-то верил во внезапное перерождение человеческой природы и почти не сомневался в том, что для мисс Денсби-Грегг возвращение к цивилизации будет вместе с тем возвращением к ее обычному «я» и что этот момент человеческой общности, объединившей ее и горничную, станет для нее всего лишь постепенно бледнеющим и досадным воспоминанием. Тем не менее, при всей моей неприязни к мисс Денсби-Грегг, я все же стал к ней добрее. Видит Бог, ее заботливо культивируемый снобизм, эта раздражающе беспечная и снисходительная убежденность в ее социальном превосходстве могли вывести вас из себя, однако за этим фальшивым фасадом скрывалась глубоко запрятанная способность к самоотверженности, которая отличает истинного аристократа. Хотя она постоянно жаловалась на мелкие неудобства, она молчала о том, что доставляло ей действительно большие страдания. В ней появилось какое-то стремление быть полезной, хотя оно и проявлялось порой несколько резко: как будто она немного стыдилась этого. Заботливое отношение к своей горничной, будучи, возможно, не более чем добротой феодала к вассалу, тем не менее граничило почти с нежностью. А один раз я видел, как она, вынув из сумочки зеркальце, некоторое время разглядывала следы разрушительного мороза на своем прекрасном лице, а потом положила зеркальце обратно в сумочку с жестом пренебрежительного равнодушия. Словом, мисс Денсби-Грегг стала для меня наглядным уроком, учившим не классифицировать людей на типы.
Мари Ле Гард, обаятельная, неунывающая, теперь превратилась в старую больную женщину, слабеющую с каждым часом. В ее попытках сохранить веселость в те минуты, когда она бодрствовала, так как большую часть времени она спала, было что-то вымученное, почти отчаянное. Они стоили ей слишком больших усилий. И я ничем не мог ей помочь. Ее время кончилось, пружина ее жизни ослабла, как слабеет пружина в старых часах. Еще один-два таких дня, и она погибнет.
Солли Ливии, закутанный и замотанный так, что виден был только один глаз, имел вид настоящего страдальца. Но в этот день я не мог испытывать к нему никакого сочувствия.
Маргарет Росс дремала возле печки, но я быстро отвел глаза в сторону: даже смотреть на это худое, бледное лицо было физически больно.
Среди всех мистер Смолвуд был просто чудом. Но я с досадой подумал, что вот еще один пример, доказывающий, насколько ошибочно было мое предположение. Вместо того чтобы первым пойти ко дну, он весьма убедительно доказывал, что будет последним. Три часа назад, когда я был в кузове, он притащил из саней свою сумку, и, когда он ее открыл, я успел заметить сложенные в ней черную сутану и красно-пурпурный капюшон священника. Он вынул библию, надел очки со стальными наушниками и переносицей и уже несколько часов читал, приспособившись, как мог, к слабому верхнему свету. Он держался спокойно, непринужденно, хотя и настороже, и, казалось, был способен продолжать в том же духе еще долгое время. Как врач и ученый, я не очень-то предавался размышлениям на теологические темы и мог лишь предположить, что мистера Смолвуда каким-то образом поддерживало нечто такое, в чем остальным из нас было отказано. Я мог ему только позавидовать.
В этот вечер мы остановились около восьми, отчасти ради радиопереклички с Хилкрестом, а отчасти для того, чтобы дать Хилкресту возможность скорее догнать нас. Предлогом для остановки был якобы слишком сильный перегрев двигателя, тем более что к вечеру температура воздуха стала неуклонно повышаться. Но несмотря на то, что она поднялась почти на 20 градусов, все равно было очень холодно, а из-за недостатка пищи и физической усталости мы страдали от мороза почти так же, как и раньше.
Было очень темно и очень тихо, воздух словно застыл в неподвижности. Далеко на юго-западе виднелись неровные очертания горной цепи, протянувшейся на сто миль. Нам предстояло пересечь ее на следующий день. При свете луны, еще скрытой от наших глаз, эти скалы казались неприступными вершинами, мерцавшими смутно-белым кристаллическим блеском.
Я выключил мотор, обошел тягач и сообщил находившимся в кузове об остановке. Потом попросил Маргарет Росс разогреть еду: суп, сухофрукты, одну из оставшихся четырех банок говяжьего фарша, попросил Джекстроу наладить антенну, потом вернулся к тягачу, наклонился к радиатору и стал выливать из него воду в жестяную банку. За день антифриз оказался в настолько разбавленном состоянии, что я был уверен — не пройдет и получаса, как вода в радиаторе замерзнет и почти наверняка разорвет его.
Думаю, что бульканье льющейся в банку воды помешало мне расслышать шаги за спиной. Как бы то ни было, я услышал их лишь в последний момент, но и тогда у меня не возникло никаких подозрений. Я выпрямился и обернулся, чтобы взглянуть на подошедшего, но слишком поздно. Какое-то расплывчатое пятно в темноте, потом яркая вспышка белого света и боль от сильного удара в лоб, чуть повыше очков над правым глазом, — все это в одно мгновение слилось воедино. Я полностью вырубился, потеряв сознание еще до того, как рухнул на снег.
За этим легко могла последовать смерть. Мне ничего не стоило перейти из бессознательного состояния в тот глубокий парализующий сон, от которого при почти восьмидесятиградусном морозе я мог бы и не проснуться. И тем не менее я все-таки проснулся, хотя и медленно, с болью и неохотой, так как меня разбудили чьи-то настойчивые и энергичные руки.
— Доктор Мейсон! Доктор Мейсон! — Я смутно понял, что это голос Джекстроу и что он поддерживает мою голову и плечи на согнутой руке. Он говорил тихо, но как-то особенно многозначительно. — Проснитесь, доктор Мейсон... Ну вот и хорошо. Осторожно, доктор Мейсон!



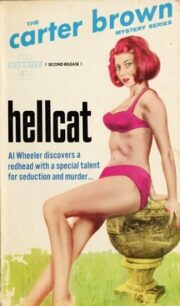

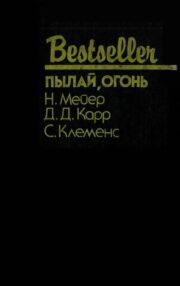
"Настоящая партнерша" отзывы
Отзывы читателей о книге "Настоящая партнерша", автор: Картер Браун. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Настоящая партнерша" друзьям в соцсетях.