Прошло немногим более часа, и мне пришлось пересмотреть последний пункт этой характеристики: наш тягач, по-видимому, уже вышел из строя. Первый намек на близкую беду появился, когда я включил зажигание и нажал на гудок. Слабый, похоронный звук едва был слышен на расстоянии двадцати ярдов. Аккумуляторы были настолько парализованы холодом, что не смогли бы привести в действие даже разогретый двигатель, а что же тогда можно сказать о двигателе на холоде, в котором и картер, и коробка передач, и дифференциал накрепко застряли в масле, потерявшем всякую способность что-либо смазывать и превратившемся в вязкую жидкость с консистенцией и неподатливостью костяного клея. Даже когда мы оба налегли двойным весом на рычаг стартера, мы не смогли повернуть ни один цилиндр. Пришлось оттаивать их при помощи паяльной лампы, заправленной бензином, а потом разместить их на деревянных ящиках, прикрыв брезентом, чтобы удержать тепло. Через час с небольшим, когда двигатель начал сравнительно легко вращаться, мы принесли из кузова тяжелый аккумулятор, который оттаивал у печки, и попробовали его еще раз. Но он по-прежнему не подавал никаких признаков жизни.
Ни один из нас, даже Коразини из Глобальной компании, выпускающей тракторы с дизельными моторами, не был знатоком двигателей. И тут мы почти впали в отчаяние. Но отчаяние как раз мы не могли себе позволить. И мы это знали. Оставив гореть паяльные лампы, мы снова поместили аккумулятор у печки, вынули и почистили клеммы, освободили замерзшие щетки генератора, вынули бензопроводы, оттаяли их и высосали ртом замерзший конденсат, выскребли лед из смесительной камеры и вернули все на свои места.
Во время этих тонких операций пришлось снять и рукавицы, и перчатки, и, когда мы отнимали руки от металлических изделий, примерзшая к металлу кожа сходила с них, как кожура с апельсина, и даже наружная поверхность пальцев горела и покрывалась волдырями от случайных контактов с металлом. Из-под ногтей сочилась кровь, сразу же свертываясь на морозе, а губы там, где они соприкасались с медными частями бензопроводов, распухли, вздулись и тоже покрылись волдырями. Это была жестокая и убийственная работа, но дело стоило всех усилий и мучений. В шесть пятнадцать, через два с половиной часа работы, большой двигатель закашлял и затрещал, словно оживая, снова умолк, снова закашлял, включился и ровно, уверенно заревел. Я почувствовал, как мои потрескавшиеся губы все же расплылись под маской в улыбке. Я даже хлопнул по спине Джекстроу и Коразини, забыв на мгновение, что последний, возможно, один из убийц. Потом я отправился завтракать.
То, что мы называли завтраком, видит Бог, была весьма скудная трапеза: кофе, крекеры и мясной фарш в количестве двух банок, разделенных на двадцать человек, причем львиная доля пошла Теодору Малеру. Теперь у нас осталось только четыре банки фарша, четыре банки овощей, около десяти фунтов сушеных фруктов, немного мороженой рыбы, коробка печенья, три пакета крупы и, не считая кофе, который мы имели в достаточном количестве, свыше двадцати банок сухого молока без сахара. Конечно, у нас была тюленина для собак: во время завтрака Джекстроу оттаивал для них очередную порцию, а жареное мясо тюленя довольно вкусное. Но здесь привилегия принадлежала собакам. Поддерживать их силы было важнее, чем наши собственные. Если тягач окончательно откажет, собаки — наша последняя надежда.
Покончив с завтраком и накормив собак, мы до захода луны тронулись в путь. Коразини сидел за рулем. Длинный шлейф выхлопных газов тянулся за нами, теряясь из виду в сумеречном свете заходящей луны. Я распорядился, чтобы водителя сменяли через каждые пятнадцать минут: ни один человек не выдержал бы больше в необогреваемой и почти незащищенной кабине. Я слыхал об одном случае в Антарктиде, когда водитель так долго просидел за рулем тягача, что не смог оторвать от баранки онемевшие и замерзшие пальцы. Я не хотел, чтобы подобное случилось с кем-нибудь из нас.
Как только мы двинулись в путь, я осмотрел Малера, и, конечно, вид его не внушал мне уверенности относительно его дальнейшей судьбы. Даже несмотря на то, что он, закутанный в теплые одеяла, лежал в спальном мешке на гагачьем пуху, застегнутый до подбородка, лицо его было иссиня-белым, и он непрерывно дрожал от холода. Я взял его за запястье. Пульс был сильно учащенным, хотя и достаточно наполненным, впрочем, в последнем я не был уверен: кожа на моих руках так воспалилась, что пальцы утратили почти всю чувствительность. Я, как мне казалось, ободряюще улыбнулся ему:
— Как вы себя чувствуете, мистер Малер?
— Не хуже, чем любой из нас, доктор Мейсон.
— Слабое утешение. Вы голодны?
— Голоден?! —воскликнул он. —Благодаря щедрости этих добрых людей я не смог бы съесть больше ни крошки.
За последние несколько часов я хорошо узнал этого тихого и скромного человека и не ожидал услышать от него ничего другого. Несмотря на сравнительно щедрую долю, которую он получил на завтрак, он проглотил ее с жадностью голодного человека. Конечно же, он был голоден: его тело, лишенное инсулина, который бы понизил все повышающееся содержание сахара в крови, требовало питания и не находило его, независимо от количества пищи.
— Пить хотите?
Он кивнул. Может быть, он не придавал этому большого значения, но это был еще один, причем характерный, признак обостряющейся болезни. Я был почти уверен, что силы начинают покидать его, и знал, что он очень скоро начнет быстро терять в весе. Он уже и сейчас выглядел похудевшим, скулы обозначились резче, чем даже тридцать шесть часов тому назад. Правда, у остальных тоже, особенно у Мари Ле Гард, хотя она ни разу не пожаловалась и все время старалась держаться бодро. Теперь она выглядела старухой, больной и глубоко усталой. Но я ничем не мог помочь ей.
— А ваши ноги? — спросил я у Малера. — Как они?
— Мне кажется, у меня давно их пет, — улыбнулся он.
— Дайте я взгляну, — решительно сказал я. Он запротестовал, но я заставил его подчиниться. Одного взгляда на помертвевшие, белые, холодные как лед ноги и ступни мне было достаточно.
— Мисс Росс, — сказал я, — с этой минуты мистер Малер на вашем попечении. У нас есть два резиновых мешка. Наполняйте их горячей водой, как только сможете ее согреть. К несчастью, растопить этот снег — целая история. И прикладывайте их к ногам мистера Малера.
И снова Малер запротестовал, возражая против того, что с ним, как он выразился, «так нянчатся». Но я на его протест не обратил никакого внимания. Мне не хотелось говорить ему, во всяком случае пока, что для диабетика отмороженные ступни, при отсутствии лечения, означают только одно: гангрену и ампутацию как самое меньшее из зол. Медленным взглядом я обвел всех, кто находился в кузове, и, знай я наверняка, на ком лежит ответственность за все это, думаю, что убил бы мерзавца без малейшего зазрения совести.
В этот момент в кузове появился Коразини. Он просидел за рулем всего пятнадцать минут, но был в весьма плачевном состоянии. Бескровное лицо было испещрено желтыми пятнами в обмороженных местах, губы потрескались, ногти начали обесцвечиваться, а на руки было страшно смотреть. Правда, Джекстроу, Веджеро и я выглядели не лучше, но именно Коразини выпала очередь вести тягач в период наиболее интенсивного падения температуры. Его трясло, как больного малярией, и по тому, как он, спотыкаясь, взобрался по лесенке в кузов, я понял, что ноги ему отказали. Я помог ему устроиться у печки.
— Ощущаете что-либо ниже колен?— быстро спросил я.
— Ни черта! — Он попытался улыбнуться, но, видимо, боль была слишком остра, а из открытой трещины на губах выступила кровь. — Ну и злой же тут мороз, док. Лучше растереть эти дурацкие ноги снегом, а? — Он нагнулся и онемевшими, кровоточащими пальцами безуспешно попытался развязать шнурки, но, прежде чем он успел что-либо сделать, Маргарет Росс опустилась на колени, и ее заботливые пальцы быстро справились с непосильной для него задачей.
Глядя на ее хрупкую фигурку, утонувшую в толстых слоях одежды, я в сотый раз спросил себя, как я мог ее раньше подозревать.
— Выражаясь вашим стилем, мистер Коразини, — сказал я, — этот дурацкий способ никуда не годится. При здешней температуре это просто бабушкины сказки. Если вам обязательно нужно содрать кожу, то лучше возьмите для этой цели наждачную бумагу. Дело в том, что при температуре в семьдесят градусов ниже нуля снег приобретает твердую, кристаллическую структуру и при растирании рассыпается на острые белые песчинки. — Я кивком указал на одно из ведер со снегом, стоявшее на печке. — Когда вода нагреется до 85 градусов, сунете туда ноги. Подержите их, пока кожа не покраснеет. Это будет не очень приятно, но зато эффективно. Если появятся волдыри, я завтра проколю их и стерилизую.
Он уставился на меня.
— И так будет все время, док?
— Боюсь, что да.
Так оно и вышло. По крайней мере в течение последующих десяти часов, когда температура упала ниже 70 градусов, какое-то время продержалась на этом уровне, а потом начала медленно, очень медленно подниматься. Десять часов, в течение которых ведра с водой не убирались с печки, десять часов, в течение которых мисс Денсби-Грегг, ее горничная Елена, а позже Солли Ливии держали у ведер паяльные лампы, чтобы ускорить процесс таяния снега и согревания воды. Десять часов, в течение которых мы, водители, сменяя друг друга, регулярно терпели мучительную боль в онемевших от мороза конечностях, когда восстанавливалось кровообращение. Десять часов, на протяжении которых мы начали испытывать почти патологический ужас перед необходимостью снова и снова погружать ноги в горячую воду. Десять часов, в течение которых Малер все больше слабел, а
Мари Ле Гард, впервые погрузившись в молчание, соскользнула на пол и лежала, съежившись, в углу, опустив веки, похожая на человека, которого покинула жизнь. Десять часов! Десять бесконечных часов неописуемых мук, равных мукам чистилища... Но еще до того, как истекли эти десять часов, произошло нечто такое, что совершенно изменило всю картину.




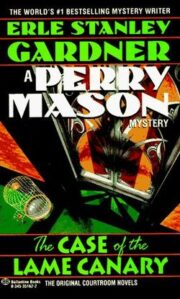

"Настоящая партнерша" отзывы
Отзывы читателей о книге "Настоящая партнерша", автор: Картер Браун. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Настоящая партнерша" друзьям в соцсетях.