— Вы недоумеваете, почему я не поблагодарила вас, — сказала она. — В экипаже я заметила ваш озадаченный взгляд. Я ничего не могу сказать. Я всегда считала себя импульсивной, но мне далеко до вас. Видите ли, мне понадобится время, чтобы в полной мере осознать ваше великодушие.
— Это не великодушие, — возразил я. — Я вернул вам то, что принадлежит вам по праву. Позвольте мне еще раз поцеловать вас. Я несколько часов просидел на ступеньках перед домом, и мне надо наверстать упущенное.
И тут она сказала:
— По крайней мере, одно я поняла. Больше нельзя ходить с вами гулять в лес. Разрешите мне встать, Филип.
Я с поклоном помог ей подняться, подал перчатки и капор. Она пошарила в сумочке, вынула небольшой пакетик и развернула его.
— Вот, — сказала она, — мой подарок вам на день рождения, который мне следовало отдать раньше. Если бы я знала, что получу наследство, жемчужина была бы крупнее.
И она вдела булавку в мой галстук.
— А теперь разрешите мне пойти домой, — сказала она.
Рейчел подала мне руку; я вспомнил, что ничего не ел с самого утра, и сразу почувствовал изрядный аппетит. Поворачивая то вправо, то влево, мы шли по петляющей между деревьями тропе — меня не покидали мысли о вареной курице, беконе и приближающейся ночи — и вдруг оказались в нескольких шагах от возвышавшейся над долиной гранитной плиты, которая, о чем я совсем позабыл, ждала нас в конце тропы. Чтобы избежать встречи с ней, я поспешно свернул к деревьям, но было слишком поздно. Рейчел уже увидела прямоугольную массивную глыбу, темневшую впереди. Она выпустила мою руку и, устремив на нее взгляд, застыла на месте.
— Что там такое, Филип? — спросила она. — По очертаниям похоже на надгробный камень, выросший из земли.
— Ничего, — быстро ответил я. — Просто кусок гранита. Нечто вроде межевого столба. Между деревьями здесь есть тропинка, она не такая крутая. Вот сюда, налево. Нет-нет, не за камнем.
— Подождите немного, — сказала она, — я хочу взглянуть на него. Я никогда не ходила этой дорогой.
Рейчел поднялась к плите и остановилась. Я видел, как шевелились ее губы, пока она читала надпись на камне. Я с тревогой наблюдал за ней. Возможно, это не более чем игра воображения, но мне показалось, что тело ее напряглось и она задержалась там дольше, чем было необходимо. Должно быть, она прочла надпись дважды. Затем она вернулась ко мне, но не взяла меня за руку, а пошла отдельно. Ни она, ни я не заговаривали о памятнике, но его зловещая тень преследовала нас. У меня перед глазами стояли нацарапанные на камне вирши, инициалы Эмброза и то, чего она не могла видеть, — записная книжка и его письмо, похороненные в сырой земле под гранитной глыбой. С отвращением к самому себе я чувствовал, что предал их обоих — Эмброза и Рейчел. Само ее молчание говорило, как глубоко она взволнована. И я подумал, что, если сейчас же не заговорю, гранитная глыба грозным, неодолимым барьером встанет между нами.
— Я хотел сводить вас туда раньше. — После долгого молчания мой голос звучал громко и неестественно. — С того места открывается вид, который Эмброз любил больше всего в целом имении. Поэтому там и стоит этот камень.
— Но показывать его мне не входило в планы, намеченные вами на свой день рождения.
Жесткие, чеканные слова, слова постороннего.
— Нет, — спокойно ответил я, — не входило.
И, не возобновляя беседы, мы молча прошли подъездную аллею, и, как только переступили порог дома, она сразу поднялась в свои комнаты.
Я принял ванну и переоделся; от былой легкости не осталось и следа, ее сменили уныние и подавленность. Какой демон привел нас к гранитной плите, какой провал памяти? Она не знала, но я ведь знал, как часто стоял там Эмброз, улыбаясь и опершись на трость; нелепый стишок способен привести лишь в то настроение, которое его подсказало, — полушутливое-полуностальгическое… доброе чувство за насмешливыми глазами Эмброза. В гранитной глыбе, высокой, горделивой, запечатлелась сущность человека, которому она по вине обстоятельств не позволила вернуться и умереть дома и который покоится за сотни миль от него на протестантском кладбище во Флоренции.
На вечер моего дня рождения легла тень.
По крайней мере, она не знала и никогда не узнает о письме; и, одеваясь к обеду, я мучительно спрашивал себя, кто тот, другой, демон, что подал мне мысль закопать его там, а не сжечь в огне, словно я инстинктивно чувствовал, что однажды вернусь и выкопаю его. Я забыл все, о чем в нем говорилось. Эмброз был болен, когда писал это письмо. Одержимый болезненными фантазиями, подозрительный, видя, как смерть протягивает к нему руку, он не полагался на свои слова. И вдруг я увидел, как на стене передо мною в ритме какого-то фантастического танца колышется, извивается фраза из его письма: «Деньги, да простит мне Господь такие слова, в настоящее время — единственный путь к ее сердцу».
Слова метнулись на зеркало и кружили по его поверхности, пока я расчесывал перед ним волосы и вдевал в галстук подаренную ею булавку. Они последовали за мной вниз по лестнице и дальше, в гостиную, где из письменных знаков превратились в звуки, обретя его голос, глубокий, знакомый, любимый, незабываемый голос самого Эмброза: «…единственный путь к ее сердцу».
Когда Рейчел спустилась к обеду, на ее шее мерцало жемчужное колье — то ли как знак прощения, то ли как дань моему дню рождения, — однако то, что она надела его, не только не приблизило ее ко мне, но еще больше отдалило. В тот вечер — да и только ли в тот? — я предпочел бы видеть ее шею обнаженной.
Мы сели обедать. Молодой Джон и Сиком прислуживали за столом, в честь моего дня рождения покрытым кружевной скатертью, уставленным фамильным серебром и освещенным парадными серебряными канделябрами. По заведенной еще в мои школьные годы традиции, подали вареную курицу и бекон, которые Сиком с гордым видом и не спуская с меня глаз внес в столовую. Мы улыбались, смеялись, поднимали тосты за них и за нас самих, за двадцать пять лет, которые остались у меня за спиной, но меня не покидало чувство, что мы только разыгрываем веселье, разыгрываем ради Сикома и молодого Джона, и, стоит нам остаться вдвоем, наступит полная тишина.
Вдруг мне показалось, что выход найден, и я с упрямством одержимости ухватился за него: надо пировать, веселиться, самому пить больше вина и наливать ей, тогда острота чувств притупится и мы оба забудем и о гранитной плите, и о том, что она олицетворяет для каждого из нас. Вчера вечером я, как во сне, пришел к маяку, и светила полная луна, и сердце мое ликовало. Сегодня вечером, хоть за прошедшие с тех пор часы мне и открылось все богатство мироздания, мне открылся и его мрак.
Осоловелыми глазами я наблюдал за ней через стол; она, смеясь, разговаривала с Сикомом, и мне казалось, что никогда она не была так красива. Если бы я мог вернуть себе состояние духа раннего утра, покой и мир и слить его с безрассудством дня среди цветов первоцвета под высокими березами, я вновь был бы счастлив. Она тоже была бы счастлива. Мы навсегда сохранили бы это настроение и как бесценную святыню пронесли бы его в будущее.
Сиком снова наполнил мой бокал, и мрак рассеялся, сомнения утихли; когда мы останемся вдвоем, подумал я, все будет хорошо, и я сегодня же вечером, сегодня же ночью спрошу ее, скоро ли мы обвенчаемся, именно скоро ли — через несколько недель, через месяц? — ибо я хотел, чтобы все знали — Сиком, молодой Джон, Кендаллы, — все, что Рейчел будет носить мое имя.
Она станет миссис Эшли, женой Филипа Эшли.
Должно быть, мы засиделись допоздна, потому что, когда на подъездной аллее послышался стук колес, мы еще не встали из-за стола. Зазвонил колокольчик, и Кендаллов ввели в столовую, где мы сидели среди хлебных крошек, остатков десерта, полупустых бокалов и прочего беспорядка, какой всегда бывает после обеда. Припоминаю, как я нетвердо поднялся на ноги и приволок к столу еще два стула, несмотря на протесты крестного, заявившего, что они уже обедали и заехали всего на минутку, чтобы пожелать мне здоровья.
Сиком принес чистые бокалы, и я увидел, что Луиза, одетая в голубое платье, вопросительно смотрит на меня, думая, как подсказала мне интуиция, что я слишком много выпил. Она была права, но такое случалось весьма редко, был мой день рождения, и ей пора раз и навсегда понять, что никогда у нее не будет права осуждать меня иначе чем в качестве подруги детства. Крестный тоже пусть знает. Это положит конец его планам относительно Луизы и меня, положит конец сплетням и облегчит душу всем, кого так занимал этот предмет.
Мы снова сели. Крестный, Рейчел и Луиза, за время ленча привыкшие к компании друг друга, завели разговор; тем временем я молча сидел на своем конце стола и, почти не слыша их, обдумывал объявление, которое решил сделать.
Наконец крестный с бокалом в руке наклонился в мою сторону и, улыбаясь, сказал:
— За твое двадцатипятилетие, Филип. Долгой жизни и счастья.
Все трое смотрели на меня, и то ли от выпитого вина, то ли от полноты сердца, но я вдруг понял, что и крестный и Луиза — мои самые дорогие и самые надежные друзья, что я очень люблю их, а Рейчел, моя любовь, со слезами на глазах кивает мне и улыбкой старается ободрить меня.
Вот он, самый подходящий момент. Слуги вышли из комнаты, и тайна останется между нами четырьмя.
Я встал, поблагодарил их и, налив себе бокал, сказал:
— У меня тоже есть тост, который я хотел бы предложить сегодня вечером. С этого утра я счастливейший из людей. Крестный, и ты, Луиза, я хочу выпить за Рейчел, которая скоро станет моей женой.
Я осушил бокал и, улыбаясь, посмотрел на них сверху вниз. Никто не ответил, никто не шелохнулся, на лице крестного я увидел выражение растерянности, Рейчел перестала улыбаться и во все глаза смотрела на меня — лицо ее превратилось в застывшую маску.



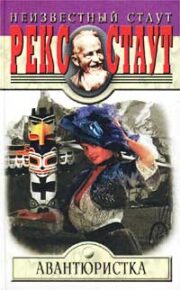

Я очень рекомендую книгу «Моя кузина Рейчел» всем, кто ищет историю о дружбе, любви и приключениях.
Я была потрясена прочитав «Мою кузину Рейчел». Дафна дю Морье подарила мне невероятное путешествие в мир Рейчел и ее приключений.
Книга Дафны дю Морье подарила мне много позитивных эмоций. Она помогла мне понять важность дружбы и любви.