Последний удар, разумеется нечаянно, нанес мой крестный и ее отец — Ник Кендалл.
— У тебя уже есть какие-нибудь планы на будущее, Филип? — спросил он однажды вечером, когда я приехал к ним обедать.
— Планы, сэр? Нет, — ответил я, не совсем уловив смысл вопроса.
— Впрочем, еще рано, — сказал он. — К тому же, я полагаю, следует дождаться возвращения Эмброза и его жены. Меня интересует, не решил ли ты присмотреть для себя небольшой кусок земли в округе.
Я не сразу понял, что он имеет в виду.
— А зачем? — спросил я.
— Но ведь дела приняли несколько иной оборот, не правда ли? — заметил он, будто говорил о чем-то решенном. — Вполне естественно, что Эмброз и его жена захотят быть вместе. И если будут дети, сын, то это отразится на твоем положении. Я уверен, Эмброз не допустит, чтобы ты пострадал из-за перемены в его жизни, и купит тебе любой участок. Конечно, не исключено, что у них не будет детей, но, с другой стороны, для подобных предположений нет никаких причин. Ты мог бы заняться строительством. Иногда строительство собственного дома приносит гораздо большее удовлетворение, чем покупка готового.
Он продолжал говорить, называя подходящие участки в радиусе миль двадцати от нашего дома, и я был благодарен ему за то, что он, казалось, не ждал ответа. Не скрою, сердце мое было переполнено, и я ничего не мог сказать крестному. То, что он предлагал, было так неожиданно, что я не мог собраться с мыслями и вскоре извинился и уехал. Да, я ревновал. Пожалуй, Луиза была права. Ревновал, как ребенок, который должен делить с посторонним того единственного, кто есть у него в жизни. Подобно Сикому, я представлял себе, как изо всех сил стараюсь освоиться с новым, стесняющим меня образом жизни. Как выбиваю трубку, встаю со стула, предпринимаю неуклюжие попытки участвовать в разговоре, приучаю себя к чопорности и скуке женского общества; как, видя, что Эмброз, мой бог, ведет себя словно последний простофиля, в отчаянии выхожу из комнаты. Но я никогда не представлял себя отверженным, выставленным из дома и живущим на содержании, как отставной слуга. Появится ребенок, который будет называть Эмброза отцом, и я стану лишним.
Если бы мое внимание на эту возможность обратила миссис Паско, я бы объяснил ее слова злопыхательством и забыл о них. Иное дело, когда такое заявляет мой тихий, спокойный крестный. Домой я возвращался в сомнениях и печали. Я не знал, что делать, как поступить. Строить планы на будущее, как советовал крестный? Найти себе дом? Готовиться к отъезду? Я хотел жить только там, где живу, владеть только той землей, какою владею. Эмброз вырастил меня на ней и для нее. Она была моей. Она была его. Она принадлежала нам обоим. Теперь уже нет. Все изменилось. Помню, как, вернувшись от Кендаллов, я бродил по дому, глядя на все новыми глазами, и собаки, заразившись моим возбуждением, не отставали от меня ни на шаг. Моя старая, заброшенная детская, куда лишь недавно каждую неделю стала приходить племянница Сикома, чтобы разбирать и чинить белье, обрела для меня новое значение. Я представил себе, что ее заново выкрасили, а маленькую биту для крикета, которая все еще стояла, покрытая паутиной, на полке между стопками пыльных книг, выкинули на помойку. Примерно раз в два месяца наведываясь туда забрать починенную рубашку или заштопанные носки, я никогда не задумывался над тем, с какими воспоминаниями связана для меня эта комната. Теперь же мне захотелось вернуть ее и уединиться там от всего мира. Но она станет совершенно чуждой мне: душной, с запахом кипяченого молока и сохнущих одеял, как комнаты в домах арендаторов, когда там есть маленькие дети. Я зримо представлял себе, как они, вопя, ползают по полу, ударяясь обо все головой, расшибая локти, или, что еще хуже, лезут к вам на колени и по-обезьяньи гримасничают, если им этого не разрешают. Боже, неужели все это ждет Эмброза?!
До сих пор, думая о моей кузине Рейчел, что случалось довольно редко, ибо я гнал от себя ее имя, как гонят неприятные мысли, я рисовал себе женщину, похожую на миссис Паско, но еще менее симпатичную. С крупными чертами лица, костлявой фигурой, ястребиными глазами, от которых, как предсказывал Сиком, не укроется ни пылинки, с чересчур громким и резким смехом, настолько резким, что приглашенные к обеду вздрагивают и бросают на Эмброза сочувственные взгляды. Теперь же ее облик изменился, и она представлялась мне то уродом, вроде несчастной Молли Бейт из Уэст-Лоджа, при виде которой люди вежливо отводят глаза, то калекой без кровинки в лице: она сидит под ворохом шалей, болезненно раздражительная и вечно недовольная сиделкой, которая в нескольких шагах от нее помешивает ложечкой лекарство. То средних лет, решительная, то жеманная и моложе Луизы — моя кузина Рейчел имела множество обликов, один отвратительней другого. Я видел, как она заставляет Эмброза опуститься на колени, чтобы играть в медведей, как дети забираются на него верхом и он, покорно уступая, теряет все свое достоинство. Или как, вырядившись в кисейное платье, с лентой в волосах, она капризно встряхивает локонами, а Эмброз, откинувшись на спинку стула, рассматривает ее с идиотской улыбкой.
В середине мая пришло письмо, в котором сообщалось, что они все же решили остаться на лето за границей. Я едва не вскрикнул от облегчения. Я больше прежнего чувствовал себя предателем, но ничего не мог с собой поделать.
«Твоя кузина Рейчел еще не разобралась с делами, которые необходимо уладить до отъезда в Англию, — писал Эмброз. — Поэтому мы решили — можешь себе представить, как это нас огорчает, — на время отложить возвращение домой. Я делаю все, что могу, но итальянские законы не наши, и примирить те и другие — не так-то просто. Мне приходится тратить уйму денег, но дело стоит того, и я не сетую. Мы часто говорим о тебе, дорогой мальчик. Как бы я хотел, чтобы ты был сейчас с нами!» Далее он задавал вопросы о работах в имении, ко всему проявляя всегдашний горячий интерес; и я подумал, что, должно быть, сошел с ума, если хоть на минуту предположил, будто он может измениться.
Все соседи, конечно, были очень разочарованы, когда узнали, что лето молодые проведут не дома.
— Возможно, — сказала миссис Паско с многозначительной улыбкой, — состояние здоровья миссис Эшли не позволяет ей путешествовать?
— Ничего не могу вам сказать, — ответил я. — Эмброз упомянул в письме, что они провели неделю в Венеции и оба вернулись с ревматизмом.
У миссис Паско вытянулось лицо.
— Ревматизм? И у нее тоже? — проговорила она. — Какое несчастье! — И задумчиво добавила: — Видимо, она старше, чем я думала.
Простая женщина, ее мысли имели только одно направление. В двухлетнем возрасте у меня были ревматические боли в коленях. От роста — говорили мне старшие. Иногда после дождя я и сейчас их чувствую. И все же мы подумали об одном.
Моя кузина Рейчел постарела лет на двадцать. У нее снова были седые волосы, она даже опиралась на палку. Я увидел ее не тогда, когда она ухаживала за розами в своем итальянском саду, представить который у меня не хватало фантазии; постукивая палкой по полу, она сидела за столом в окружении юристов, лопочущих по-итальянски, а мой бедный Эмброз терпеливо сидел рядом с ней.
Почему он не приехал домой и не оставил ее заниматься делами? Однако настроение мое улучшилось, как только желанная новобрачная уступила место стареющей матроне с прострелами в наиболее чувствительных местах. Детская отступила на второй план; я видел гостиную, превратившуюся в заставленный ширмами будуар, где даже в середине лета жарко пылает камин, и слышал, как кто-то раздраженно велит Сикому принести угля — в комнате страшные сквозняки. Я снова принялся петь в седле, травил собаками кроликов, купался перед завтраком, ходил под парусом в лодчонке Эмброза, когда позволял ветер, и перед отъездом Луизы в Лондон, где она собиралась провести сезон, доводил ее до слез шутками о столичных модах. В двадцать три года для хорошего настроения надо не так уж много. Мой дом принадлежал мне, никто его не отнимал.
Затем тон писем Эмброза изменился. Сперва я почти ничего не заметил, но, перечитывая их, в каждом слове все явственней улавливал странное напряжение, в каждой фразе — скрытую тревогу, мало-помалу проникающую в его душу. Я понимал, что в какой-то мере это объясняется ностальгией по дому, тоской по родным местам и привычному укладу жизни, но меня поражало ощущение одиночества, тем более непонятное в человеке, который женился всего десять месяцев назад. Эмброз писал, что долгое лето и осень были очень утомительны, зима наступила необычно душная. Несмотря на то что на вилле высокие потолки, дышать совершенно нечем, и он бродит из комнаты в комнату, словно собака перед грозой, но грозы все нет и нет. Воздух не становится свежее, и он готов душу отдать за проливной дождь, хоть он и вызывает новые приступы болезни. «Я никогда не страдал головной болью, — писал он, — но теперь она часто докучает мне. Порою она просто нестерпима. Солнце мне до смерти надоело. Мне страшно не хватает тебя. О многом надо поговорить, а в письме всего не скажешь. Моя жена сегодня в городе, вот мне и выпала возможность написать тебе». Здесь он впервые употребил слова «моя жена». Раньше он всегда говорил «Рейчел» или «твоя кузина Рейчел», поэтому слова «моя жена» показались мне слишком официальными и холодными.
В письмах, которые я получил от Эмброза в ту зиму, о возвращении домой речи не было, но он очень хотел узнать последние новости; он отзывался на каждый пустяк в моих письмах, словно ничто другое его не интересовало.
Прошла Пасха, Троица — никаких вестей, и я начал беспокоиться. Своими опасениями я поделился с крестным, но тот сказал, что почта, конечно, задерживается из-за погоды. Сообщали, что в Европе выпал поздний снег, и я мог ожидать писем из Флоренции не раньше конца мая. Прошло больше года, как Эмброз женился, и полтора года, как уехал. Чувство облегчения, которое я испытал, узнав, что его приезд с молодой женой откладывается, сменилось страхом, что он вообще не вернется. Очевидно, первое лето, проведенное в Италии, подвергло его здоровье серьезному испытанию. А как повлияет на него второе? Наконец в июле пришло письмо — короткое, бессвязное, абсолютно на Эмброза не похожее. Даже буквы, обычно такие четкие и разборчивые, расползались по странице, как будто писавший с трудом держал перо. «Дела мои плохи, — писал Эмброз, — о чем ты, наверное, догадался по моему последнему письму. Но никому не говори об этом. Она следит за мной. Я несколько раз писал тебе, но мне здесь некому довериться, и если не удастся самому отправить письма, то они могут не дойти до тебя. Из-за болезни я не в состоянии далеко ходить пешком. Что до врачей, я не верю никому из них. Они все до единого лжецы и обманщики. Новый врач, которого рекомендовал Райнальди, настоящий головорез из той же банды. Однако со мной они напрасно связались, и я их одолею». Далее следовал пропуск и после неразборчивых каракулей, которые я так и не сумел расшифровать, — подпись Эмброза.


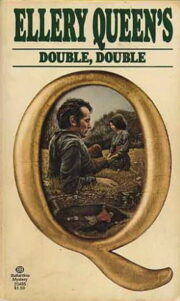

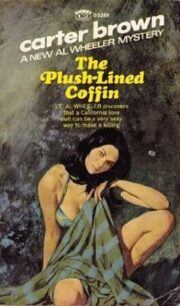

Я очень рекомендую книгу «Моя кузина Рейчел» всем, кто ищет историю о дружбе, любви и приключениях.
Я была потрясена прочитав «Мою кузину Рейчел». Дафна дю Морье подарила мне невероятное путешествие в мир Рейчел и ее приключений.
Книга Дафны дю Морье подарила мне много позитивных эмоций. Она помогла мне понять важность дружбы и любви.