Я посмотрел на свои руки, пыльные от книг.
— Если позволите, я пойду умоюсь и переоденусь.
Я отправился наверх, оделся, и, когда спустился снова, обед был уже подан. Мы молча заняли свои места. По давней привычке Сиком часто вмешивался в наш разговор за обедом, если хотел что-нибудь сказать, и в тот вечер, когда обед подходил к концу, обратился к кузине Рейчел:
— Вы показали мистеру Филипу новые портьеры, мадам?
— Нет, Сиком, — ответила она. — Я не успела. Но если у мистера Филипа есть желание посмотреть, могу показать их после обеда. Попросите Джона принести их в библиотеку.
— Портьеры? — недоуменно спросил я. — Какие портьеры?
— Разве вы не помните? — удивилась кузина Рейчел. — Я же вам говорила, что заказала портьеры для голубой спальни. Сиком их видел, и они произвели на него большое впечатление.
— Ах да, — сказал я, — теперь припоминаю.
— Я в жизни не видел ничего подобного, сэр, — сказал Сиком. — И верно, ни в одном доме в наших краях нет такого.
— Их привезли из Италии, Сиком, — объяснила кузина Рейчел. — Их можно купить только в одном магазине в Лондоне. Мне сказали про него во Флоренции. Хотите взглянуть, Филип, или вам неинтересно?
В ее голосе звучали надежда и тревога, словно она хотела услышать мое мнение и вместе с тем опасалась быть навязчивой. Не знаю почему, но я чувствовал, что краснею.
— О да, — сказал я, — с удовольствием взгляну на них.
Мы встали из-за стола и пошли в библиотеку. Вскоре Сиком вместе с Джоном принес ткань и разложил ее перед нами. Он был прав. Ничего подобного не было во всем Корнуолле. Я не видел ничего, даже отдаленно напоминающего их, ни в Лондоне, ни в Оксфорде. Богатая парча и тяжелый шелк. Такое можно увидеть только в музее.
— Вот это как раз для вас, сэр, — почти шепотом, будто в церкви, сказал Сиком.
— Голубая ткань для полога над кроватью, — сказала кузина Рейчел, — а синяя с золотом — для портьер и покрывала. А что скажете вы, Филип?
Она вопросительно взглянула на меня. Я не знал, что ответить.
— Вам не нравится? — спросила она.
— Очень нравится, — ответил я. — Но… — Меня бросило в жар. — …Все это, наверное, очень дорого стоит?
— О да, дорого, — ответила она. — Такая ткань всегда дорого стоит, но она и через много лет будет как новая, Филип. Поверьте, ваш внук и правнук будут спать в голубой спальне с этим покрывалом на кровати и с этими портьерами на окнах. Вы согласны, Сиком?
— Да, мадам, — сказал Сиком.
— Но главное — нравятся ли они вам, Филип? — снова спросила она.
— Конечно, — проговорил я, — как могут они не нравиться?
— В таком случае они ваши, — сказала кузина Рейчел. — Это мой подарок вам. Уберите их, Сиком. Утром я напишу в Лондон, что мы их оставляем.
Сиком и Джон сложили ткань и вышли. Я ощутил на себе взгляд кузины Рейчел и, не желая отвечать на него, вынул трубку и дольше, чем обычно, раскуривал ее.
— Вас что-то беспокоит? — спросила она. — Что именно?
Я не знал, как ей ответить. Мне не хотелось обижать ее.
— Вам не следует делать мне такие подарки, — с трудом проговорил я. — Это слишком дорого.
— Но я хочу подарить вам эти драпировки, — возразила она. — В сравнении с тем, что вы для меня сделали, мой подарок — сущий пустяк.
— Очень мило с вашей стороны, но все же я думаю, что вам не стоит этого делать.
— Позвольте мне самой судить, — заявила она. — Я уверена, что когда вы увидите комнату заново отделанной, то останетесь довольны.
Я чувствовал себя донельзя неловко, и не потому, что она со свойственной ей импульсивностью и щедростью хотела сделать мне подарок, который еще вчера я принял бы без колебаний, но после того, как я прочел отрывок проклятого письма, меня преследовали сомнения — не обернется ли то, что она хочет сделать для меня, против нее самой и, уступая ей, не положу ли я начало тому, чего и сам до конца не понимаю.
Вскоре она сказала:
— Книга о садах очень пригодится нам при планировке вашего парка. Я совсем забыла, что когда-то подарила ее Эмброзу. Вам обязательно надо просмотреть все гравюры. Конечно, они не совсем подходят к здешним краям, но некоторые детали вполне можно позаимствовать. Например, терраса, выходящая на море, а с противоположной стороны — нижний сад, как на одной римской вилле, где я обычно останавливалась. В книге есть гравюра с его изображением. И место подходящее есть — там, где когда-то была старая стена.
Не знаю, как это получилось, но с неожиданной для себя самого бесцеремонностью я вдруг спросил:
— Вы и родились в Италии?
— Да, — ответила она, — разве Эмброз вам не писал? Семья моей матери всегда жила в Риме, а мой отец, Александр Корин, был из тех, кто редко засиживается на одном месте. Он терпеть не мог Англию — по-моему, он не слишком ладил со своим семейством здесь, в Корнуолле. Ему нравилась жизнь Рима; они с матерью очень подходили друг другу, но вели довольно странное и в чем-то рискованное существование, вечно без гроша в кармане. Ребенком я этого не понимала, но когда выросла…
— Они оба умерли? — спросил я.
— О да. Отец умер, когда мне было шестнадцать лет. Пять лет мы жили вдвоем с матерью. Пока я не вышла за Козимо Сангаллетти. То были страшные пять лет; мы постоянно переезжали из города в город. Юность моя была далеко не безоблачной, Филип. Не далее как в прошлое воскресенье я невольно сравнивала Луизу и себя в ее возрасте.
Значит, когда она в первый раз вышла замуж, ей был двадцать один год. Как сейчас Луизе. Я подумал: на что они жили, пока она не встретила Сангаллетти? Возможно, давали уроки итальянского. Не потому ли Рейчел пришла мысль заняться этим и здесь?
— Моя мать была очень красива, — сказала она. — Совсем не похожа на меня. Кроме цвета волос. Высокая, статная. И как многие женщины ее типа, она неожиданно резко сдала, располнела, перестала следить за собой. Я была рада, что отец не дожил до этого. Рада, что он не увидел многого, что она позволяла себе, да и я тоже.
Она говорила ровно, спокойно; в голосе ее не было горечи. Я смотрел, как она сидит у камина, и думал о том, сколь мало я о ней знаю, да и едва ли когда-нибудь узнаю о ее прошлом больше того, что она рассказала. Она назвала юность Луизы безоблачной и была права. И я вдруг подумал, что то же самое можно сказать и обо мне. Помимо опыта, приобретенного в Харроу и Оксфорде, я ничего не знал о жизни за пределами своих пятисот акров земли. Что значило для такой женщины, как кузина Рейчел, переезжать с места на место, менять один дом на другой, на третий, выйти замуж раз, второй? Закрыла ли она за собой дверь в прошлое, никогда не вспоминая о нем, или ее преследовали воспоминания — изо дня в день, из года в год?
— Он был намного старше вас? — спросил я.
— Козимо? — отозвалась она. — О нет, примерно на год. Мою мать ему представили во Флоренции, ей давно хотелось познакомиться с семейством Сангаллетти. Ему понадобился целый год, чтобы выбрать между нею и мной. За это время она, бедняжка, утратила красоту, а заодно и его. Мое удачное приобретение обернулось обязанностью платить по векселям. Но Эмброз, наверное, описал вам всю эту историю. Она не из счастливых.
Я чуть было не сказал: «Нет, Эмброз был гораздо более скрытным, чем вы думаете. Если что-то причиняло ему боль или шокировало, он делал вид, будто ничего не замечает. О вашей жизни он поведал мне только то, что Сангаллетти убили на дуэли». Но ничего подобного я не сказал. Мне вдруг стало ясно, что я тоже не хочу знать ни про Сангаллетти, ни про ее мать, ни про ее жизнь во Флоренции. Я хотел захлопнуть дверь в прошлое. Более того — запереть ее на замок.
— Да, — сказал я. — Да, Эмброз писал мне.
Кузина Рейчел вздохнула и поправила подушку под головой.
— Кажется, все это было так давно! Я была в те годы другим человеком. Видите ли, я почти десять лет пробыла замужем за Козимо Сангаллетти. И я не буду больше молода, даже если вы откроете мне целый мир. Впрочем, я становлюсь пристрастной.
— Вы рассуждаете, — заметил я, — будто вам по меньшей мере девяносто девять.
— Мне тридцать пять, — сказала она, — а для женщины это все равно что девяносто девять. — Она посмотрела на меня и улыбнулась.
— Неужели? А я думал, вам больше.
— Подобное заявление многие женщины сочли бы оскорбительным, но я воспринимаю его как комплимент. Благодарю, Филип, — сказала она. — А что все-таки было на той бумаге, которую вы сожгли утром?
Неожиданность вопроса застигла меня врасплох. Я во все глаза уставился на кузину Рейчел.
— Бумага? — попробовал увильнуть я. — Какая бумага?
— Вы отлично знаете какая, — сказала она. — Клочок бумаги, исписанный Эмброзом, который вы сожгли, чтобы я его не увидела.
Тогда я решил, что полуправда лучше, чем ложь. Мое лицо залилось краской, но я не отвел взгляда.
— Это был обрывок письма, — сказал я, — письма, которое Эмброз, скорей всего, писал мне. Он признавался, что обеспокоен чрезмерными тратами. Там было всего несколько строчек, я даже не помню точно их содержания. Я бросил бумагу в огонь, потому что, увидев ее именно в этот момент, вы могли бы расстроиться.
К моему немалому удивлению, глаза, пристально смотревшие на меня, смягчились. Рука, теребившая кольца, упала на колени.
— И все? — спросила она. — А я-то думала… никак не могла понять…
Слава богу, она приняла мое объяснение.
— Бедный Эмброз, — сказала она. — То, что он считал моей расточительностью, было для него постоянным источником беспокойства. Странно, что вы не слышали о ней раньше, гораздо раньше. Жизнь за границей так отличалась от того, к чему он привык дома! Он никак не хотел с этим смириться. К тому же я знаю — и, видит Бог, не могу винить его, — что в глубине души он возмущался жизнью, которую я была вынуждена вести до встречи с ним. Эти ужасные долги… он заплатил их все до одного.


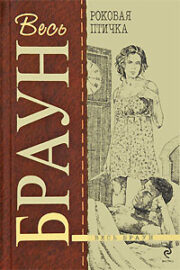

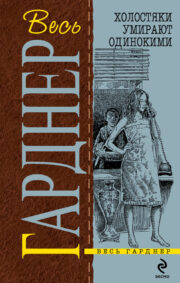

Я очень рекомендую книгу «Моя кузина Рейчел» всем, кто ищет историю о дружбе, любви и приключениях.
Я была потрясена прочитав «Мою кузину Рейчел». Дафна дю Морье подарила мне невероятное путешествие в мир Рейчел и ее приключений.
Книга Дафны дю Морье подарила мне много позитивных эмоций. Она помогла мне понять важность дружбы и любви.