Но я был не такой; Эмброз — тоже. Оба мы были мечтатели — непрактичные, замкнутые, полные теорий, которые никогда не проверялись опытом жизни; и, как все мечтатели, мы были глухи к бурлящему вокруг нас миру. Испытывая неприязнь к себе подобным, мы жаждали любви, но застенчивость не давала пробудиться порывам, пока они не трогали сердца. Когда же это случалось, небеса раскрывались, и нас обоих охватывало чувство, будто все богатство мироздания принадлежит нам, и мы были готовы без колебаний отдать его. Оба мы уцелели бы, если бы были другими. Рейчел все равно приехала бы сюда. Провела бы день-два и навсегда покинула бы наши места. Мы обсудили бы деловые вопросы, пришли бы к какому-нибудь соглашению, выслушали завещание, официально зачитанное за столом в присутствии нотариусов, и я, с первого взгляда оценив положение, выделил бы ей пожизненную пенсию и навсегда избавился бы от нее.
Этого не произошло потому, что я был похож на Эмброза. Этого не произошло потому, что я чувствовал, как Эмброз. В первый же вечер по приезде Рейчел я поднялся в ее комнату, постучал и, слегка склонив голову под притолокой, остановился в дверях. Когда она встала со стула около окна и взглянула на меня снизу вверх, я по выражению ее глаз должен был понять, что увидела она вовсе не меня, а Эмброза. Не Филипа, а призрак. Ей надо было сразу уехать. Собрать вещи и уехать. Отправиться туда, где она своя, где все ей знакомо и близко, — на виллу, хранящую воспоминания за скрытыми ставнями окнами, к симметрично разбитым террасам сада, к плачущему в небольшом дворике фонтану. Вернуться в свою страну — летом выжженную солнцем, окутанную знойной дымкой, зимой — сурово застывшую под холодным ослепительным небом. Инстинкт должен был предупредить ее, что, оставаясь со мной, она погубит не только явившийся ей призрак, но в конце концов и себя самое.
Вновь и вновь спрашиваю я себя: подумала ли она, увидев, как я стою в дверях, робкий, нескладный, объятый жгучим негодованием, сознавая, что я здесь — хозяин и глава, и вместе с тем гневно досадуя на свои длинные руки, неуклюжие, как у необъезженного жеребенка ноги, — подумала ли она: «Таков был Эмброз в свои молодые годы. До меня. Таким я его не знала» — и тем не менее осталась?
Возможно, именно поэтому при моей первой короткой встрече с Райнальди, итальянцем, он тоже постарался скрыть изумление, на мгновение задумался и, поиграв пером, которое лежало на его письменном столе, спросил: «Вы приехали лишь сегодня? Значит, ваша кузина Рейчел вас не видела?» Инстинкт предупредил и его. Но слишком поздно.
Что прошло, то миновало. Возврата нет. Ничто в жизни не повторяется. Живой, сидя здесь, в своем собственном доме, я так же не могу вернуть сказанное слово или совершённый поступок, как бедный Том Дженкин, когда он раскачивался в своих цепях.
Ник Кендалл, мой крестный, с присущей ему грубоватой прямотой сказал мне накануне моего двадцатипятилетия — всего несколько месяцев назад, но, боже, как давно: «Есть женщины, Филип, возможно, вполне достойные, хорошие женщины, которые не по своей вине приносят беду. Чего бы они ни коснулись, все оборачивается трагедией. Не знаю, зачем я говорю тебе это, но чувствую, что должен сказать». И он засвидетельствовал мою подпись под документом, который я положил перед ним.
Да, возврата нет. Юноши, что стоял под ее окном накануне своего дня рождения, юноши, что стоял в дверях ее комнаты в вечер ее приезда, больше не существует, как не существует и ребенка, который для храбрости бросил камень в повешенного. Том Дженкин, потрепанный образчик рода человеческого, никем незнаемый и не оплакиваемый, тогда, за далью этих восемнадцати лет, смотрел ли ты с грустью и состраданием, как я бегу через лес… в будущее?
Если бы я оглянулся назад, то в цепях, свисающих с перекладины виселицы, я увидел бы не тебя, а свою собственную тень.
Глава 2
Когда вечером накануне отъезда Эмброза в его последнее путешествие мы сидели вдвоем и разговаривали, у меня не было ощущения близкой беды. Предчувствия, что мы больше никогда не будем вместе. Осень подходила к концу; врачи в третий раз велели ему провести зиму за границей, и я уже привык к его отсутствию, привык в это время смотреть за имением. Когда он уехал в первый раз, я еще был в Оксфорде и его отъезд не внес никаких изменений в мою жизнь, однако на следующую зиму я окончательно вернулся и все время был дома, как он того и хотел. Я не тосковал по стадной жизни в Оксфорде — скорее, был даже рад, что расстался с ней.
Я никогда не стремился жить вне дома. За исключением лет, проведенных в Харроу[1], а затем в Оксфорде, я всегда жил здесь, с тех пор как меня привезли сюда полуторагодовалым младенцем после смерти моих молодых, рано умерших родителей. Эмброз проникся жалостью к своему осиротевшему двоюродному брату и вырастил меня сам, как вырастил бы щенка, котенка или любое другое слабое, одинокое существо, которому нужны защита и ласка.
Эмброз всегда хозяйничал не совсем обычно. Когда мне было три года, он рассчитал мою няньку за то, что она отшлепала меня гребенкой для волос. Этого случая я не помнил, но Эмброз потом рассказал мне о нем.
— Я чертовски рассердился, — сказал он мне, — увидев, как эта баба своими огромными шершавыми ручищами колотит твою крошечную персону за пустячный проступок, понять который у нее не хватило разумения.
Мне ни разу не пришлось пожалеть об этом. Не было и не могло быть человека более справедливого, более честного, более любящего, более чуткого и отзывчивого. Он обучил меня азбуке самым простым способом — пользуясь начальными буквами бранных слов (чтобы набрать двадцать шесть таких слов, потребовалась немалая изобретательность, но он справился с этой задачей), предупредив меня, чтобы я не произносил их при людях. Неизменно учтивый и обходительный, Эмброз робел при женщинах и не доверял им, говоря, что они приносят в дом несчастье. Поэтому в слуги он нанимал только мужчин, и их шатией управлял старый Сиком, дворецкий моего покойного дяди.
Эксцентричный, пожалуй, не без странностей — наши западные края известны причудами своих обитателей, — Эмброз, несмотря на сугубо индивидуальный подход к женщинам и к методам воспитания маленьких мальчиков, не был чудаком. Соседи его любили и уважали, арендаторы души в нем не чаяли. Пока его не скрутил ревматизм, он охотился зимой, летом удил рыбу с небольшой лодки, которую держал на якоре в устье реки, навещал соседей, когда чувствовал к тому расположение, по воскресеньям ходил в церковь (хотя и строил мне уморительные гримасы с другого конца семейной скамьи, если проповедь слишком затягивалась) и всячески старался заразить меня своей страстью к разведению редких растений.
— Это такая же форма творения, как и все прочие, — обычно говорил он. — Некоторые мужчины пекутся о продолжении рода. А я предпочитаю растить жизнь из почвы. Это требует меньших усилий, а результат приносит гораздо большее удовлетворение.
Такие заявления шокировали моего крестного Ника Кендалла, викария Паско и других приятелей Эмброза, которые пытались убедить его взяться за ум, обзавестись семьей и растить детей, а не рододендроны.
— Одного юнца я уже вырастил, — отвечал он, трепля меня за ухо. — Он отнял у меня двадцать лет жизни, а может, и прибавил — это еще как посмотреть. Более того, Филип — готовый наследник, так что не стоит говорить, будто я пренебрегаю своим долгом. Когда придет время, он выполнит его за меня. А теперь, джентльмены, садитесь и располагайтесь поудобнее. В доме нет ни одной женщины, а посему можно класть ноги на стол и плевать на ковер.
Естественно, ничего подобного мы не делали. Эмброз отличался крайней чистоплотностью и тонким вкусом, но ему доставляло истинное удовольствие отпускать такие замечания в присутствии нового викария — бедняги, находившегося под каблуком у жены и обремененного целым выводком дочерей. По окончании воскресного обеда подавали портвейн, и мой брат, наблюдая за его круговым движением, подмигивал мне с противоположного конца стола.
Как сейчас вижу: Эмброз, полусгорбившись, полуразвалившись — эту позу я перенял у него, — сидит на стуле, сотрясаясь от беззвучного смеха, вызванного робкими увещеваниями викария, и вдруг, испугавшись, что может оскорбить его чувства, переводит разговор на предметы, доступные пониманию низенького гостя, и изо всех сил старается, чтобы тот чувствовал себя спокойно и уверенно.
Поступив в Харроу, я еще больше оценил достоинства Эмброза. Во время каникул, которые пролетали слишком быстро, я постоянно сравнивал брата и его приятелей со своими шумными однокашниками и учителями, сдержанными, холодными, чуждыми, по моим представлениям, всему человеческому.
— Ничего, ничего, — похлопывая меня по плечу, обычно говорил Эмброз, когда я, с побелевшим лицом и чуть не плача, садился в экипаж, отвозивший меня к лондонскому дилижансу. — Это всего лишь подготовка, что-то вроде объездки лошади. Потерпи. Ты и оглянуться не успеешь, как окончишь школу и я заберу тебя домой и сам займусь твоим обучением.
— Обучением — чему? — спросил я.
— Ты ведь мой наследник, не так ли? А это уже само по себе профессия.
И наш кучер Веллингтон увозил меня в Бодмин, чтобы успеть к лондонскому дилижансу. Я оборачивался в последний раз взглянуть на Эмброза. Он стоял, опершись на трость, в окружении своих собак. В уголках его глаз от искреннего сочувствия собирались морщинки; густые вьющиеся волосы начали седеть. Когда он входил в дом, свистом зовя собак, я проглатывал подступивший к горлу комок и чувствовал, как колеса кареты с фатальной неизбежностью несут меня по гравиевой дорожке парка, через белые ворота, мимо сторожки привратника, — в школу, разлучая со всем, что я так люблю.
Однако Эмброз переоценил свое здоровье, и, когда мои школьные и университетские годы остались позади, пришел его черед уезжать.




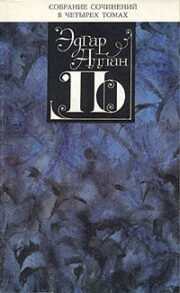
Я очень рекомендую книгу «Моя кузина Рейчел» всем, кто ищет историю о дружбе, любви и приключениях.
Я была потрясена прочитав «Мою кузину Рейчел». Дафна дю Морье подарила мне невероятное путешествие в мир Рейчел и ее приключений.
Книга Дафны дю Морье подарила мне много позитивных эмоций. Она помогла мне понять важность дружбы и любви.