— Ты, Кайт, такая же глупая, как твои дети, если не сказать больше. Но просто так тебе от меня не отделаться. Знай, я не отступлю от своих прав.
Ренисенб вздрогнула, заслышав за спиной тихие шаги. Она обернулась и, увидев Хенет, тотчас испытала привычное чувство неприязни.
На худом лице Хенет, как всегда, играла подобострастная улыбка.
— Ничего не изменилось, правда, Ренисенб? — пропела она. — Не понимаю, почему мы все терпим от Сатипи. Кайт, конечно, может ей ответить. Но не всем дано такое право. Я, например, знаю свое место и благодарна твоему Отцу за то, что он дал мне кров, кормит меня и одевает. Он добрый человек, твой отец. И я всегда стараюсь делать для него все, что в моих силах. Я вечно при деле, помогаю то тут, то там, не надеясь услышать и слова благодарности. Будь жива твоя ненаглядная мать, все было бы по-другому. Она-то уж умела ценить меня. Мы были, как родные сестры. А какая она была красавица! Что ж, я выполнила свой долг и сдержала данное ей обещание. «Возьми на себя заботу о детях, Хенет», — умирая, завещала мне она. И я не нарушила своего слова. Была всем вам рабыней и никогда не ждала благодарности. Не просила, но и не получала! «Это всего лишь старая Хенет, — говорят люди. — Что с ней считаться?» Да и с какой стати? Никому нет до меня дела. А я все стараюсь и стараюсь, чтоб от меня была польза в доме.
И, ужом скользнув у Ренисенб под локтем, она исчезла во внутренних покоях со словами:
— А про те подушки, ты прости меня, Сатипи, но я краем уха слышала, как Себек сказал…
Ренисенб отвернулась. Она почувствовала, что ее давнишняя неприязнь к Хенет стала еще острее. Ничего удивительного, что все они дружно не любят Хенет из-за ее вечного нытья, постоянных сетований на судьбу и злорадства, с которым она раздувает любую ссору.
«Для нее это своего рода развлечение», — подумала Ренисенб. Но ведь и вправду жизнь Хенет была безрадостной, она действительно трудилась как вол, ни от кого никогда не слыша благодарности. Да к ней и невозможно было испытывать чувство благодарности — она так настаивала на собственных заслугах, что появившийся было в сердце отклик тотчас исчезал.
Хенет, по мнению Ренисенб, принадлежала к тем людям, которым судьбою уготовано быть преданными другим, ничего не получая взамен. Внешне она была обо всем осведомлена. Хенет обладала способностью появляться почти бесшумно, и ничто не могло укрыться от ее зоркого взгляда и острого слуха. Иногда она держала тайну при себе, но чаще спешила нашептать ее каждому на ухо, с наслаждением наблюдая со стороны за произведенным впечатлением.
Время от времени кто-нибудь из домочадцев начинал уговаривать Имхотепа прогнать Хенет, но Имхотеп даже слышать об этом не желал. Он, пожалуй, единственный относился к ней с симпатией, за что она платила ему такой собачьей преданностью, от которой остальных членов семьи воротило с души.
Ренисенб постояла еще с секунду, прислушиваясь к ссоре своих невесток, подогретой вмешательством Хенет, а затем не спеша направилась к покоям, где обитала мать Имхотепа Иза, которой прислуживали две чернокожие девочки-рабыни. Сейчас она была занята тем, что разглядывала полотняные одежды, которые они ей показывали, и добродушно ворчала на маленьких прислужниц.
Да, все было по-прежнему, думала Ренисенб, прислушиваясь к воркотне старухи. Старая Иза чуть усохла, вот и все. Голос у нее тот же, и говорила она то же самое, почти слово в слово, что и тогда, когда восемь лет назад Ренисенб покидала этот дом…
Ренисенб тихо выскользнула из ее покоев. Ни старуха, ни две маленькие рабыни так ее и не заметили. Секунду-другую Ренисенб постояла возле открытой в кухню двери. Запах жареной утятины, реплики, смех и перебранка — все вместе. И гора ожидающих разделки овощей.
Ренисенб стояла неподвижно, полузакрыв глаза. Отсюда ей было слышно все, что происходило в доме. Начиненный запахами пряностей шум в кухне, скрипучий голос старой Изы, решительные интонации Сатипи и приглушенное, но настойчивое контральто Кайт. Хаос женских голосов — болтовня, смех, горестные сетования, брань, восклицания…
И вдруг Ренисенб почувствовала, что задыхается в этом шумном женском обществе. Целый дом крикливых вздорных женщин, никогда не закрывающих рта, вечно ссорящихся, занятых вместо дела пустыми разговорами.
И Хей, Хей в лодке, собранный, сосредоточенный на одном — вовремя поразить копьем рыбу.
Никакой зряшной болтовни, никакой бесцельной суетливости.
Ренисенб выбежала из дому в жаркую безмятежную тишину. Увидела, как возвращается с полей Себек, а вдалеке к гробнице поднимается Яхмос.
Тогда и она пошла по тропинке к гробнице, вырубленной в известняковых скалах. Это была усыпальница великого и благородного Мериптаха, и ее отец состоял жрецом-хранителем этой гробницы, обязанным содержать ее в порядке, за что и дарованы были ему владения и земли.
Не спеша поднявшись по крутой тропинке, Ренисенб увидела, что старший брат беседует с Хори, управителем отцовских владений. Укрывшись в небольшом гроте рядом с гробницей, мужчины склонились над папирусом, разложенным на коленях у Хори. При виде Ренисенб оба подняли головы и заулыбались. Она присела рядом с ними в тени. Ренисенб любила Яхмоса. Кроткий и мягкосердечный, он был ласков и приветлив с ней. А Хори когда-то чинил маленькой Ренисенб игрушки. У него были такие искусные руки! Она запомнила его молчаливым и серьезным не по годам юношей. Теперь он стал старше, но почти не изменился. Улыбка его была такой же сдержанной, как и прежде.
Мужчины тихо переговаривались между собой.
— Семьдесят три меры ячменя у Ипи-младшего…
— Тогда всего будет двести тридцать мер пшеницы и сто двадцать ячменя.
— Да, но предстоит еще заплатить за лес, за хлеб в колосьях мы расплачивались в Пераа маслом…
Разговор продолжался, и Ренисенб чуть не задремала, убаюканная тихими голосами мужчин. Наконец Яхмос встал и удалился, оставив свиток папируса в руках у Хори.
Ренисенб, помолчав, дотронулась до свитка и спросила:
— Это от отца?
Хори кивнул.
— А о чем здесь говорится? — с любопытством спросила она, развернув папирус и глядя на непонятные знаки, — ее не научили читать.
Чуть улыбаясь, Хори заглянул через ее плечо и, водя мизинцем по строчкам, принялся читать. Письмо было написано пышным слогом профессионального писца Гераклеополя[97].
— Имхотеп, жрец души умершего, верно несущий свою службу, желает вам уподобиться тому, кто возрождается к жизни бессчетное множество раз, и да пребудет на то благоволение бога Херишефа[98], повелителя Гераклеополя, и всех других богов. Да ниспошлет бог Птах[99] вам радость, коей он вознаграждает вечно оживающего. Сын обращается к своей матери, жрец «ка» вопрошает свою родительницу Изу: пребываешь ли ты во здравии и благополучии? О домочадцы мои, я шлю вам свое приветствие. Сын мой Яхмос, пребываешь ли ты во здравии и благополучии? Преумножай богатства моих земель, не ведая устали в трудах своих. Знай, если ты будешь усерден, я вознесу богам молитвы за тебя…
— Бедный Яхмос! — засмеялась Ренисенб. — Он и так старается изо всех сил.
Слушая это напыщенное послание, она ясно представила себе отца: тщеславного и суетливого, своими бесконечными наставлениями и поучениями он замучил всех в доме.
Хори продолжал:
— Твой первейший долг — проявлять заботу о моем сыне Ипи. До меня дошел слух, что он пребывает в неудовольствии. Позаботься также о том, чтобы Сатипи хорошо обращалась с Хенет. Помни об этом. Не премини сообщить мне о сделках со льном и маслом. Береги зерно, береги все, что мне принадлежит, ибо спрошу я с тебя. Если земли зальет, горе тебе и Себеку.
— Отец ни капельки не изменился, — с удовольствием заметила Ренисенб. — Как всегда уверен, что без него все будет не так, как следует. — Свиток папируса соскользнул с ее колен, и она тихо добавила. — Да, все осталось по-прежнему…
Хори молча подхватил папирус и принялся писать. Некоторое время Ренисенб лениво следила за ним. На душе было так покойно, что не хотелось даже разговаривать.
— Хорошо бы научиться писать, — вдруг мечтательно заявила она. — Почему всех не учат?
— В этом нет нужды.
— Может, и нет нужды, но было бы приятно.
— Ты так думаешь, Ренисенб? Но зачем, зачем это тебе?
Секунду-другую она размышляла.
— По правде говоря, я не знаю, что тебе ответить, Хори.
— Сейчас даже в большом владении достаточно иметь несколько писцов, — сказал Хори, — но я верю, придет время, когда в Египте потребуется множество грамотных людей. Мы живем в преддверии великой эпохи.
— Вот это будет замечательно! — воскликнула Ренисенб.
— Я не совсем уверен, — тихо отозвался Хори.
— Почему?
— Потому что, Ренисенб, записать десять мер ячменя, сто голов скота или десять полей пшеницы не требует большого труда. Но будет казаться, будто самое важное — уметь написать это, словно существует лишь то, что написано. И тогда те, кто умеет писать, будут презирать тех, кто пашет землю, растит скот и собирает урожай. Тем не менее на самом деле существуют не знаки на папирусе, а поля, зерно и скот. И если все записи и все свитки папируса уничтожить, а писцов разогнать, люди, которые трудятся и пашут, все равно останутся, и Египет будет жить.
Сосредоточенно глядя на него, Ренисенб медленно произнесла:
— Да, я понимаю, что ты хочешь сказать. Только то, что человек видит, может потрогать или съесть, только оно настоящее… Можно написать: «У меня двести сорок мер ячменя», но, если на самом деле у тебя их нет, это ничего не значит. Человек может написать ложь.
Хори улыбнулся, глядя на ее серьезное лицо.
— Ты помнишь, как чинил когда-то моего игрушечного льва? — вдруг спросила Ренисенб.


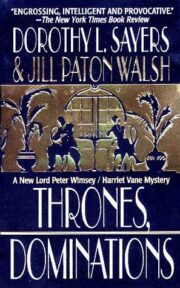


Я прочитала книгу Агаты Кристи «Месть Нофрет» и была поражена ее умением передавать настроение и атмосферу таинственного детектива. Книга полна загадок, предательства и неожиданных поворотов событий. Она привлекает внимание своими деталями и проникает в душу читателя. Это одна из самых лучших книг Агаты Кристи, которую я когда-либо читала. Я рекомендую ее всем, кто любит детективы.
Я прочитала книгу «Месть Нофрет» Агаты Кристи и была поражена глубиной и интеллектуальностью повествования. Автор прекрасно передала атмосферу преступления и приключений, а также проникла в душу героев. Она показала мне, что даже в самых трагических и непростых ситуациях можно найти выход. Эта книга помогла мне понять, что все мы имеем право на свободу и право на месть.