— Ребекка! — окликнул кто-то из гостей, и девушка улыбнулась ему через плечо.
Я могу без конца описывать улыбку Ребекки! Такую живую и яркую и в то же время далекую и неземную, не имеющую ни малейшего отношения к словам окружающих. Ее глаза постоянно преображались, будто невидимая рука вращала серебряную рукоятку.
В тот день она ушла рано, и я, сгорая от нетерпения, прошел в другой конец комнаты, чтобы расспросить Ольгу. Но и от Ольги удалось узнать немного.
— Ребекка родом из Венгрии, — сообщила она. — О родителях ничего не известно. Думаю, они евреи. Ко мне ее привел Ворки, который познакомился с Ребеккой в Париже, когда та играла на скрипке в одном из русских кафе. Но между ними ничего нет, и живет она совершенно одна. Ворки говорит, девушка удивительно талантлива и если будет работать, вскоре никто не сможет с ней сравниться в искусстве игры на скрипке. Только, похоже, ей безразлично, и трудиться Ребекка не желает. Однажды я слышала ее игру в доме у Ворки — должна признаться, у меня мурашки побежали по спине. Она стояла в конце комнаты и была похожа на пришельца с другой планеты: волосы торчат в разные стороны, словно дремучие дебри. А потом Ребекка начала играть. И каждая нота звучала причудливо и дико, западая в душу. В жизни не слышала ничего подобного. Нет, это невозможно описать.
И снова я ушел от Ольги, погрузившись в мечты, где перед глазами плясало лицо Ребекки. Я тоже услышал ее игру на скрипке. Ребекка стояла, выпрямившись, строгая, словно прилежный ребенок. Глаза широко раскрыты, на губах играет улыбка.
На следующий вечер она должна была играть дома у Ворки, и я пошел послушать. При всей своей мелочной лживости Ольга не преувеличивала. Я сидел как зачарованный, не в силах пошевелиться. Не знаю, что она исполняла, но мелодия была изумительной, всепоглощающей. И мир вокруг перестал существовать, остались только мы с Ребеккой, купаясь в невыразимом блаженстве. Вот мы взобрались на крутую гору, а потом взмыли в воздух и поднимались все выше и выше.
Вдруг скрипка стала выражать протест, будто отвергая меня, но я не сдавался и настаивал на своем. Потом хлынул поток звуков, то уступая, то сопротивляясь, смесь нот, в которой переплелись желание и нежность и неописуемое наслаждение. Я чувствовал, как сердце бьется, будто мощный двигатель огромного корабля, и его удары отдаются в висках.
Ребекка стала частью меня, мной самим, и этот восторг было невозможно вынести. Мы достигли вершины, дальше которой дороги нет. Ослепительное солнце било в глаза, я поднял голову и взглянул на Ребекку — она улыбалась. Мелодия скрипки оборвалась на изысканно пленительной ноте — свершилось!
В изнеможении я откинулся на спинку дивана, не в силах справиться с бурей противоречивых чувств — столь восхитительные мгновения невозможно пережить наяву. Слишком много в них неземной красоты. Прошло минуты три, прежде чем я пришел в себя. Будто прыгнул в черную бездну и погрузился в сон — и вот снова пробудился.
Никто не обращал на меня внимания: Ворки занимался напитками, а Ребекка сидела за роялем и перелистывала ноты. На просьбу сыграть что-нибудь еще ответила отказом, сославшись на усталость. Гости настаивали, и Ребекка снова взялась за скрипку и исполнила прелестную короткую пьесу, безыскусную и чистую, как молитва ребенка.
Чуть позже тем же вечером она подошла и присела ненадолго рядом, а я от волнения не мог произнести ни слова. Проклиная себя за глупость, все же набрался смелости и посмотрел ей в лицо.
— Во время вашей игры я пережил удивительные чувства, словно вкусил сладостной отравы. Такое забыть невозможно. У вас редкостный, нет, воистину опасный дар.
Некоторое время Ребекка молчала, а потом заговорила тихим сдержанным голосом.
— Я играла для вас, — призналась она. — Хотела понять, что чувствуешь, когда играешь для мужчины.
Ее слова привели в замешательство, и я не понял смысла. Ребекка с улыбкой смотрела мне в глаза. Нет, она не лгала и не притворялась.
— Что вы хотите сказать? — удивился я. — Неужели раньше вам не приходилось для кого-нибудь играть? Странно.
— Наверное, — согласилась она. — Видимо, так и есть. Не могу объяснить.
— Хочу снова с вами встретиться, — выдохнул я. — Наедине, когда можно поговорить по душам. С нашей первой встречи в квартире у Ольги я непрестанно думаю о вас. Да вы и сами знаете, верно? Именно поэтому сегодня вечером и играли для меня одного.
Отчаянно хотелось добиться откровенности, заставить сорваться с губ заветное «да». Но Ребекка только пожала плечами, уходя от ответа. Ее уклончивость раздражала.
— Не знаю, не знаю, — откликнулась она.
Я спросил, где она живет, и Ребекка назвала адрес. О, она очень занята, и мы не сможем встретиться до конца недели. Вскоре вечеринка закончилась, и девушка исчезла.
Дни тянулись бесконечно долго. Я постоянно думал о Ребекке и не мог дождаться дня свидания.
В пятницу терпение лопнуло, и я отправился к ней домой. Ребекка жила в старинном особняке в Блумсбери, где снимала верхний этаж. Дом имел угрюмый, навевающий тоску вид, и я удивился такому странному выбору.
Ребекка сама открыла дверь и проводила меня в просторную пустую комнату, похожую на мастерскую. Тут же горела керосиновая плитка. Меня поразила гнетущая обстановка в жилище, но Ребекка, казалось, ничего не замечала и пригласила сесть в ветхое кресло.
— Вот здесь я упражняюсь в игре на скрипке и ем, — сообщила она. — Чудесная комната, верно?
Я ничего не ответил, а она подошла к буфету и достала напитки и зачерствевшее печенье. Сама Ребекка ни к чему не притронулась.
Она казалась отстраненной и чужой, а мое присутствие, похоже, наводило скуку. Разговор получился вымученным, с долгими паузами, и я не сумел излить, что накопилось в душе. А ведь хотелось так много сказать. Ребекка сыграла на скрипке несколько знакомых классических произведений, которые даже отдаленно не напоминали музыку, что я слышал в ее исполнении у Ворки.
Перед уходом она показала свое жилище, состоявшее из кладовой, которую Ребекка использовала в качестве кухни, убогой ванной и маленькой спальни, обставленной просто и строго, как монашеская келья. Из мастерской вела дверь еще в одну комнату, но хозяйка ее не показала. А комната явно была большой: я определил это по окну, когда вышел на улицу и увидел, как Ребекка опускает тяжелую портьеру.
(Примечание доктора Стронгмена: далее несколько страниц выцвели и покрылись пятнами, прочесть их не представляется возможным. Повествование продолжается с середины предложения.)
— …нет, не холодно, — настаивала она. — Я пыталась объяснить свои странности. Мне никто и никогда не нравился, и я ни разу не влюблялась. Люди меня скорее отталкивают, а не привлекают…
— Но по вашей музыке этого не скажешь, — нетерпеливо перебил я. — Вы играете так, будто знаете все тайны на свете.
Безразличие Ребекки начинало бесить; оно явно носило нарочитый характер, и создавалось впечатление, что девушка что-то скрывает. Я понимал, что никогда не сумею прочесть ее мысли: либо Ребекка подобна спящему дитя, нераспустившемуся бутону, либо насквозь лжива, и тогда любой мужчина мог стать ее любовником. Кто угодно.
Я мучился сомнениями и страдал от ревности. Мысль о соперниках доводила до безумия. А Ребекка не желала облегчить мою участь и только смотрела огромными прозрачными глазами, чистыми, как вода в горном ручье, и тогда я мог поклясться, что она невинна. И все же… и все же? Достаточно одного взгляда, случайной улыбки — и мучительная пытка возобновлялась с новой силой. Ребекка была непостижимой, вечно ускользала, но именно ее роковая скрытность разрывала сердце на части, пока любовь не стала одержимостью, приобретая ужасную, губительную силу.
Я приставал с расспросами к Ольге, Ворски и всем, кто ее знал, но никто не мог сообщить что-либо определенное.
Пишу, а дни и недели выпадают из памяти. Невозможно уловить последовательность событий. Словно воскрес из мертвых, восстал из пыли и пепла, чтобы пережить все заново, пройти еще раз всю свою проклятую жизнь — ибо чем была моя жизнь до того момента, когда я полюбил Ребекку? Где я был и кем?
Лучше напишу про воскресенье, то самое, что стало концом. А я и не знал, думал, все только начинается. Был похож на человека, бредущего в темноте. Нет — при ярком свете, с широко открытыми глазами, ничего не замечая вокруг, намеренно превращая себя в слепца.
Воскресенье, день лживого, обманчивого счастья. Около девяти вечера я пошел домой к Ребекке. Та ждала меня, облаченная в причудливые дьявольские одежды алого цвета, которые лишь одна она осмеливалась носить. Ребекка выглядела возбужденной, будто под действием какого-то зелья, и носилась по комнате подобно сказочному эльфу.
Потом опустилась на пол, поджав ноги, и протянула изящные смуглые руки к плите. Смеялась как дитя и напомнила мне проказливую девочку, затевающую очередное озорство.
Вдруг она повернулась ко мне — лицо бледное, в глазах странный блеск.
— Можно ли любить так сильно, что получаешь необъяснимую радость, причиняя любимому боль? То есть заставлять ревновать и при этом страдать самой? Боль и наслаждение смешиваются в равных долях ради эксперимента. Редкое ощущение, верно?
Ее слова привели в замешательство, но я все же попытался объяснить, что представляет собой садизм. Кажется, Ребекка поняла и пару раз кивнула с задумчивым видом.
Потом встала с места и медленно направилась к двери, которая при мне ни разу не открывалась. Остановилась в нерешительности, взявшись за ручку. Лицо покрыла неестественная бледность, непослушные волосы окружали лицо причудливым ореолом.
— Хочу познакомить вас с Джулио, — сообщила Ребекка.
Я встал со стула и подошел, не подозревая, что ждет впереди. А она взяла меня за руку и распахнула дверь. Взору открылась круглая комната с низким потолком. Стены задрапированы бархатными портьерами, будто с целью заглушить все звуки, а окно закрыто плотными шторами. Тускло горел дровяной камин, а рядом стояла тахта с разбросанными в беспорядке подушками. Комнату освещала только маленькая лампа с абажуром, и потому здесь царил полумрак.



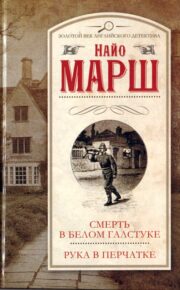


"Кукла (сборник)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Кукла (сборник)", автор: Дафна дю Морье. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Кукла (сборник)" друзьям в соцсетях.