— Я не говорю этого. По имеющимся у нас уликам мы должны были арестовать его и предъявить ему обвинение. Но он невиновен до тех пор, пока суд не скажет свое слово. Ведь именно так полагается по закону, Мэттью?
— В теории именно так, ты прав.
— Хотелось бы, чтобы именно так было и на практике, — сказал Блум. — А иначе получится, что я работал из рук вон плохо. Не горю желанием украсить розой петлицу фрака твоего подзащитного, если он в самом деле убил тех двух женщин. Но я тебе уже сказал: кое-что меня беспокоит. Мне надо получить от Харпера ответы на кой-какие вопросы. Постарайся сегодня вечером добиться успеха, Мэттью. Уговори его добровольно сдаться полиции.
— Попытаюсь.
— Договорились. Так ты хочешь осмотреть этот гараж?
Мы направились к дому Харпера, который как две капли воды был похож на дом Салли, расположенный неподалеку. Оба дома, наверное, строил один подрядчик, только дом Харпера был скорее серого, чем белого цвета, и участок огорожен не забором, а низкорослым кустарником, обозначавшим границы владения. Блум вытащил из кармана связку ключей.
— Пришлось писать расписку в получении, можешь представить? И это — офицеру полиции, — добавил он, покачав головой. — Забрал всю связку, потому что не знаю, какой из этих ключей от дома. У этого парня ключей больше, чем у тюремного надзирателя.
Блум перепробовал несколько ключей, пока наконец не нашел подходящего, отпер замок и потянул ручку вниз. Дверь гаража с грохотом поднялась.
Этот гараж ничем не напоминал гараж Ллойда Дэвиса в Майами, хотя они с Харпером занимались фактически одним делом. Гараж Харпера поражал царившим в нем порядком, хотя ни на полу, ни на стенах не было и дюйма свободного пространства. Все лежало на своих местах, весь товар, предназначенный для продажи. В гараже Дэвиса и на лужайке около дома в полном беспорядке валялись кучи всякого хлама. Гараж Харпера напоминал склад, в котором каждой вещи отведено свое место. На одной полке стояли радиоприемники, на другой — рамы для картин, на третьей — слесарно-водопроводная арматура, — все разложено по полочкам, не гараж, а Ноев ковчег. У одной стены — вешалки с женским платьем и верхней одеждой, каждая вещь — на своей вешалке. Рядом, у той же стены, поношенные мужские костюмы и куртки. Старые журналы сложены в картонные коробки, на которых рукой Харпера (частенько с ошибками) написаны их названия: «Нью-Йоркер», «Нэшенел график», «Ледиз хоум джорнал», «Харперз базар», «Тайм», «Плейбой». Даже личные инструменты Харпера были развешаны на доске, прибитой к стене, каждый инструмент в своем гнезде, — чтобы всем было ясно: это личные вещи хозяина, не продаются. Сразу бросалось в глаза пустое гнездо, предназначавшееся для молотка.
— Аккуратист, — сказал Блум.
— Верно, — согласился я.
— Так почему же он оставляет повсюду свои отпечатки пальцев?
На полке над верстаком выстроились в ряд разной величины банки, гвозди и шурупы, отличавшиеся по размеру и весу, разложены в разные банки, шайбы, гайки, болты, щеколды и дверные петли лежали в других банках. Отдельная полка для банок с краской и лаком, на ней же несколько банок скипидара, а дальше — пустое пространство, там, возможно, стояла канистра для бензина. Рядом с верстаком, у стены, газонокосилка, смазанная маслом и без единого пятнышка, ни единой травинки не зацепилось за ее режущие ножи. За ней, в самый угол было задвинуто что-то накрытое брезентом. Блум приподнял брезент.
Под ним оказалось несколько картин, написанных маслом. Относительно авторства одной из них не возникало ни малейших сомнений — это была работа Салли Оуэн. Нас поразил сюжет картины: на ней в страстном объятии сплелись тела черного мужчины и белой женщины. Мы с Блумом молча смотрели друг на друга. Следом за этой картиной стоял холст без рамы, плохая копия Рембрандта — «Мужчина с золотым шлемом». За ним — рыбачья лодка. И на последнем полотне художник пытался изобразить красочный закат. Кисти Салли принадлежало, очевидно, только первое полотно, другие работы были столь же беспомощны, но сильно отличались по манере письма и по сюжетам.
— Как, по-твоему, может, это Харпер с женой? — спросил Блум.
— Не похожи.
— Так они ни на кого не похожи, — возразил Блум, — просто какой-то черный целуется с белой женщиной.
— Может, Харпер хотел подарить эту картину своей жене? — предположил я.
— А может, это дар художника, — сказал Блум, вложив в слово «художник» всю силу своего критического анализа.
Блум опустил брезент, и мы, выйдя из гаража, отправились на задний двор. Там хранился лесоматериал, сложенный штабелями в полном соответствии с длиной и шириной каждой доски. Три выкрашенных зеленой краской стула расположились рядышком у задней стены гаража, возле них — еще два, ободранных. У той же стены в затылок друг другу выстроились четыре стремянки. Синяя ванна и рядом с ней — керамическая раковина того же цвета.
— Ты знаешь, — сказал Блум, — такие вот громилы, как твой Харпер, бывают страшными аккуратистами. Точно так же, если ты обращал внимание, у некоторых толстяков удивительно легкая походка. Мой дядя Макс, упокой, Господи, его душу, весил, наверное, фунтов триста, а порхал словно бабочка. Вот и твой из той же породы. Все у него на своем месте. Как в часах: для каждого винтика и пружинки свое место. И кроме того, он — тихоня. Очень тихий человек.
— Именно так мне и говорили о Харпере.
— Кто?
— Его друг. Бывший муж Салли Оуэн.
— Вот как?
— Он сказал, что Харпер переживал, если приходилось вытащить крючок из рыбы.
— Не то чтобы заживо сжечь женщину, — это ты хочешь сказать? А еще одной — размозжить череп?
— У тебя опять изменилось настроение, — заметил я.
— Просто пытаюсь понять все это, — мягко возразил Блум. — Ты закончил здесь?
— Еще одна просьба, — сказал я.
— Какая?
— Поручи своим ребятам поискать около дома тайник, где могли прятать запасные ключи.
— Сделаем завтра, — пообещал Блум.
Полицейская машина заехала за мной в нашу контору в 5.15, и мы отправились на местное телевидение. Ведущий программы новостей сказал, что до выхода в эфир меня надо загримировать. Я пытался воспротивиться, приведя в качестве аргумента слова Альфреда Хичкока из его интервью: «Как можно относиться с уважением к человеку, — говорил он, — который зарабатывает себе на жизнь, гримируя свое лицо?» Ведущий не счел достойным внимания мое высказывание, он объяснил, что мне придется загримироваться, иначе станет заметно, что загримированы все остальные участники программы. Я не очень понял его логику, но, тем не менее, послушно последовал за ним в маленькую комнатку, где пухленькая коротышка в синем перепачканном краской халате трудилась над прической блондинки, в которой я без труда узнал Предсказательницу погоды.
— Вы приглашены? — спросила меня коротышка.
— Да, — ответил я.
— Немного грима вокруг глаз и на подбородок, — вынесла она приговор, не покинув своего рабочего места.
Последний раз я брился в семь утра по местному времени в Пуэрто-Валларта. В зеркале, раму которого обвивала гирлянда электролампочек, я был похож на Ричарда Никсона, готовившегося к встрече со своим народом.
— Все в порядке, дорогая, — сказала гримерша блондинке. Та, наклонившись поближе к зеркалу, прикоснулась пальцем к уголку рта, осторожно поправила там что-то и поднялась со стула. Выходя из комнаты, она улыбнулась мне, из чего я сделал вывод, что завтра ожидается безоблачная погода. Я занял освободившийся стул. «Этот грим легко смывается», — успокоила меня коротышка.
Меня выпустили в эфир после Предсказательницы погоды, обрадовавшей зрителей сообщением, что завтра ожидается дождь и будет холодно, и перед спортивным комментатором, который ждал своего выхода, чтобы сообщить о новостях спорта местного значения. Ведущий представил меня. И я сказал, глядя прямо в камеру: «Обращаюсь к Джорджу Харперу. Джордж, это Мэттью Хоуп. Если вы смотрите эту передачу, прошу отнестись к моим словам серьезно. Я по-прежнему уверен, что вы невиновны, и сделаю все от меня зависящее, чтобы доказать это присяжным. Очень прошу вас: позвоните мне, Джордж. Мой номер есть в телефонном справочнике. Позвоните мне домой или в контору, „Саммервилл и Хоуп“ на Херон-стрит. Мне нужно поговорить с вами, Джордж. Это очень важно. Пожалуйста, позвоните мне. Заранее благодарю вас».
Чувствовал я себя полным идиотом.
То же самое обращение я повторил и в телестудии в Тампе, потенциально на более широкую аудиторию. Домой добрался почти в десять вечера. Смешав себе мартини «Бифитер» покрепче и бросив в стакан две оливки, отправился в кабинет и включил автоответчик. Первый, кого я услышал, был Джим Уиллоби.
«Не понимаю, Мэттью, какого черта вы отправились на телевидение, но очень надеюсь, что окружной прокурор не потребует изменить место встречи, выслушав ваше заявление о невиновности Харпера, с которым вы обратились к будущим присяжным заседателям. Вы сглупили, Мэттью. Позвоните лучше мне, как только сможете. Я-то думал, что вы все еще в Мексике».
И множество звонков от людей с больной психикой.
«Мистер Хоуп, — заявил первый из них, — видел ваше короткое выступление по телевизору, мистер Хоуп, и хотел бы высказать вам свое мнение о вашем подзащитном, этом убийце-ниггере. Так и надо ему, пусть попадет на электрический стул. И вы тоже вместе с ним!»
Мужчина повесил трубку. Тихо шелестела пленка. Следующий звонок, на этот раз — женщина: «Знаю, где искать его, мистер Хоуп: в „Ниггертауне“, вот где. Напьется до чертиков, а выбравшись оттуда, убьет еще одну. Как вам только не стыдно».
Щелчок. Опять шелест пленки, другой женский голос: «А вы симпатично смотритесь по телику, мистер Хоуп. Если захочется приятно провести время, позвоните мне, слышите? Спросите Люсиль, только звоните на работу, я ведь замужем. Работаю официанткой в ресторане „Лофтсайд“, это на Сауф-Трейл. А может, заглянете к нам, поглядите, как и что, а уж потом звякнете. Вы ужасный симпатяга».

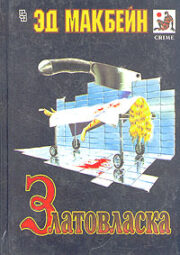

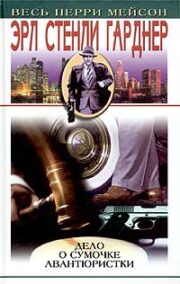


"Красавица и чудовище" отзывы
Отзывы читателей о книге "Красавица и чудовище", автор: Эд Макбейн. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Красавица и чудовище" друзьям в соцсетях.