Ход событий был очевиден, я ничего не мог отрицать. Мотивы моих действий, искаженные ею, неверно истолкованные, были сейчас неважны.
— Франсуаза знала о контракте, — сказал я. — Я не утаивал его от нее. Я говорил ей правду.
— Правду?
Глядящие на меня глаза были жесткие, циничные. Боль и мука прошлой ночи исчезли. Этой женщине было неведомо страдание. Она никогда не молила меня о помощи.
— Все мы порой говорим правду, — сказала она, — если это случайно выгодно нам. Франсуаза тоже сказала мне правду, когда пришла сюда утром. О да, ты был прав. Я действительно видела ее. Возможно, я последняя, кто ее видел. Она пришла одетая, готовая идти искать Мари-Ноэль. «Что так расстроило девочку? — спросила она. — Почему она убежала?» «Что ее расстроило? — ответила я. — Она боится, что займут ее место, вот и все. Кому по вкусу быть свергнутым с престола. Она хочет избавиться от новорожденного, да и от вас тоже». Тут все и началось. Она сказала, что никогда не была здесь счастлива, всегда тосковала по дому, чувствовала себя одинокой, лишней, и все по моей вине, ведь я с самого начала была против нее настроена. «Жан никогда не любил меня», — сказала она. Я согласилась. «Даже сейчас ему нужно одно — деньги», — продолжала она. «Естественно», — сказала я. «И он хочет, чтобы я умерла и он мог жениться на ком-нибудь другом?» — спросила она наконец. Я сказала, что этого я не знаю. «Жан волочится за всеми женщинами. Он даже здесь, в замке, строил куры Рене, а в Вилларе у него есть любовница», — сказала я. Франсуаза сказала, что подозревала и то и другое и твоя доброта к ней в последние дни была только для отвода глаз. «Значит, избавиться от меня хочет не только девочка, — сказала она, — но и Жан, и вы, и Рене, и та женщина в Вилларе?» Я не ответила ей. Я сказала, чтобы она прекратила истерику и шла вниз. Это все. Больше мы не обменялись ни словом. Она просила правду и получила ее. Если у Франсуазы не хватило мужества встретить ее лицом к лицу, это ее дело. Я тут ни при чем. Какая разница, выкинулась она из окна или упала, так как у нее закружилась голова? Доказать тут ничего нельзя. Важен результат. Ты получил то, что хотел, ведь так?
— Нет! — вскричал я. — Нет…
Я толкнул maman обратно в кресло; выражение ее лица изменилось. Она казалась напуганной, сбитой с толку, и внезапный переход от цинизма к страху, вызванному гневным звуком моего голоса, — а в гневе-то я был на себя, — заставил меня понять всю тщетность объяснений, всю бесплодность потраченных впустую усилий что-либо ей объяснить. Что бы она ни сказала Франсуазе, сколь правдивы или жестоки ни были ее слова, сказаны они были ради сына. Я не мог ее обвинять.
Я встал, подошел к окну и стоял там, глядя на лес позади парка. О Господи, думал я, неужели нельзя найти решение, неужели нет выхода — не для меня, самозванца, но для них — для матери, для Мари-Ноэль, для Бланш, для Поля и Рене? Если Жан де Ге разжигал их ревность, зависть, раздоры и вражду, оправданием ему могло служить прошлое. У меня нет такой отговорки. Я следовал по его стопам потому, что боялся разоблачения, хотел потерять свое «я».
Ночной дождь прочистил водосточные желоба. На языке горгульи поблескивала лужица. Что-то еще сверкало в желобе стеклянным блеском. Это была пустая ампула из-под морфия, брошенная туда Шарлоттой и до сих пор скрытая под листьями. Глядя на нее, я спросил себя, что было бы, если бы прошлой ночью я не пустил такую же ампулу в ход, а остался здесь, в спальне; чего бы я смог достичь, какого понимания добиться, какую вселить надежду? Я бы не поехал в Виллар, Мари-Ноэль не спустилась бы в колодец. Трагедия была бы предотвращена, Франсуаза осталась бы жить. Я отвернулся от окна и посмотрел на женщину, сидящую в кресле, затем сказал:
— Вы должны мне помочь.
— Помочь тебе? Как? — спросила она. — Как я могу помочь тебе?
Я опустился на колени рядом с креслом и взял ее за руку. Какое бы зло ни причинили здесь в прошлом, какие бы ни нанесли обиды, чужак исправить этого не мог. Я мог построить заново лишь настоящее. Но не один.
— Вы только что сказали мне, будто я получил то, что хотел, — начал я. — Вы имели в виду деньги, да? Для стекольной фабрики, для всех нас, для Сен-Жиля?
— Что же еще? — спросила графиня. — Ты будешь богатый человек, сможешь делать что вздумаешь, будешь свободен. Только это и важно для тебя. Разве не так?
— Нет, не так, — сказал я — Для меня важны вы. Я хочу, чтобы вы снова были главой семьи, как прежде, а это невозможно, если вы не покончите с морфием.
И пока я произносил эти слова, что-то стало распадаться на части, слой за слоем рушилась стена, защищающая каждого из нас от нападения внешнего мира, стена, сквозь которую не слышен никакой зов, не виден никакой сигнал; на какой-то краткий миг самая ее сущность, замкнутая в себе, стала обнажаться, сжимавшая мою руку рука говорила мне об одиночестве долгих лет, об омертвевших чувствах, напоенном ядом уме, пустом сердце. Я ощущал, как все это перешло через наши сомкнутые руки ко мне, стало моей неотъемлемой частью, и бремя это оказалось невероятно тяжелым. А затем графиня выдернула свою ладонь из моей, броня снова прикрыла ей грудь, черты лица стали жестче, передо мной был человек, который избрал для себя определенный образ жизни, — ведь иного ему было не дано, а тот, кто стоит возле нее на коленях, кого она считала своим сыном, пытается лишить ее единственного утешения, единственного способа все забыть.
— Я стара и слаба, от меня мало пользы, — сказала графиня. — Почему ты хочешь отнять у меня то, что дает мне забвение?
— Вы не стары и не слабы и можете принести много пользы, — сказал я, — мне, если не себе. Вчера вы спустились вниз на террасу и принимали гостей. Вы хотели быть рядом со мной, как раньше рядом с моим отцом, вы хотели быть такой, как когда-то давным-давно. Но дело было не только в желании вернуть прошлое или в гордости; это была попытка доказать самой себе, что все в вашей власти, что вы не зависите от коробки с ампулами, шприца, которые хранятся здесь, наверху, и от Шарлотты. Вы можете взять над ними верх, ведь вчера вам это удалось. Вы и дальше пересиливали бы себя, если бы не я.
Графиня подняла на меня глаза, недоверчивые, настороженные.
— Что ты имеешь в виду?
— О чем вы думали вчера утром, — спросил я, — после ухода гостей?
— О тебе, — сказала графиня, — и о прошлом. Я вернулась в прежние годы. Какое это имеет значение, о чем я думала? Это причинило мне боль, вот и все. А когда я страдаю, мне нужен морфий.
— Я заставил вас страдать, — сказал я. — Я был причиной.
— Пусть так, — сказала графиня. — Все матери страдают из-за своих сыновей. Страдание — часть нашей жизни. Мы не виним вас за это.
— Вашей, но не нашей. Сыновья не переносят боли. Я трус, всегда им был. Вот почему мне нужна ваша помощь, сейчас и в будущем, нужна куда больше, чем была нужна в прошлом.
Я встал с колен и вышел в соседнюю комнату. Коробка с ампулами по-прежнему лежала в шкафчике над умывальником, шприц тоже; я вынул их и, войдя в спальню, показал графине.
— Я заберу их с собой, — сказал я. — Возможно, это опасно, я не знаю. Вы сказали, что я рисковал, когда заключал новый контракт с Корвале в расчете получить состояние. Сейчас я тоже многое ставлю на карту, хотя рискую совсем другим.
Я видел, что пальцы ее вцепились в подлокотники, видел ужас и отчаяние, промелькнувшие в глазах.
— Я не могу этого сделать, Жан, — сказала она. — Ты не понимаешь. Я не могу лишить себя этого вот так, вдруг. Я слишком стара, слишком слаба. Возможно, когда-нибудь, но не сейчас. Если ты хотел, чтобы я бросила, почему не сказал мне раньше? Сейчас слишком поздно.
— Нет, не поздно. — Я положил коробку на стол. — Дайте мне руки, — сказал я.
Графиня вложила ладони в мои, и я поднял ее из кресла. Стараясь удержаться на ногах, она вцепилась в повязку, и я почувствовал, как разлилась боль от пальцев до самого локтя. Графиня продолжала цепляться за меня, не осознавая, что делает, и я понял — убери я руку, что-то будет потеряно: вера, сила, которые сейчас поддерживают ее, придают ей мужества.
— А теперь пойдемте вниз, — сказал я.
Она стояла между мной и окном: грузная, большая, заслоняя собой свет, чуть пошатываясь, чтобы не потерять равновесия; крест из слоновой кости, который она носила на шее, раскачивался маятником из стороны в сторону.
— Вниз? — повторила она. — Зачем?
— Затем, что вы мне нужны, — сказал я. — Теперь вы будете сходить вниз каждый день.
Долгое время графиня стояла, не расслабляя пальцев, вцепившихся мне в руку. Наконец она меня отпустила и, величественная, горделивая, двинулась к дверям. В коридоре, отказавшись от помощи, она опередила меня и распахнула дверь в соседнюю комнату. И тут же навстречу ей выскочили терьеры; они лаяли, прыгали, подскакивали вверх, чтобы лизнуть ее.
Графиня торжествующе повернулась ко мне.
— Так я и думала, — сказала она. — Собак не выводят. Шарлотта лжет мне. Она обязана водить их каждый день в парк на прогулку. Беда в том, что в замке никому ни до чего нет дела. Откуда же быть порядку?
Собаки, выпущенные из заточения, помчались к лестнице; в то время как мы медленно шли следом за ними, графиня сказала:
— Я правильно расслышала — ты говорил кюре, что приготовлениями к похоронам займутся Бланш и Поль?
— Да, — ответил я.
— Они ничего в этом не смыслят, — сказала графиня. — В замке не было похорон с тех самых пор, как умер твой отец. Все должно быть сделано как положено. Франсуаза не кто-нибудь там, она важная особа, ей должно быть оказано всяческое уважение. В конце концов, она была твоей женой. Она была графиней де Ге.
Maman подождала на площадке лестницы, пока я отнес коробки в гардеробную. Входя в гостиную, мы услышали голоса. Все остальные уже вернулись. Поль стоял у камина, рядом с ним — кюре. Рене сидела на своем обычном месте в углу дивана, Бланш — в кресле. Все в замешательстве уставились на нас, даже кюре понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя и, скрыв удивление, озабоченно спросить, чем он может нам помочь. Но графиня отстранила его и направилась прямиком к тому креслу у камина, где всегда сидела Франсуаза. Бланш тут же поднялась и подошла к ней.





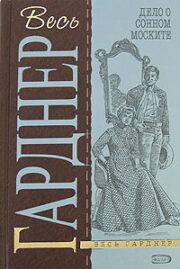
"Козел отпущения" отзывы
Отзывы читателей о книге "Козел отпущения", автор: Дафна дю Морье. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Козел отпущения" друзьям в соцсетях.