Я закрыл альбом и сунул его обратно в ящик. Возможно, там были и другие, но одной рукой рыться было бесполезно. Новый контракт все еще лежал у меня в кармане; интересно, что подумал бы обо всем этом Морис Дюваль?.. Я, должно быть, заснул в кресле — вдруг оказалось, что уже шесть часов. Меня потревожили — нет, не Поль, и не Рене, и не девочка, — меня разбудили шаги кюре. Он зажег свет лампы, стоявшей на бюро, и теперь внимательно вглядывался в меня, участливо кивая головой.
— Ну вот. Я вас разбудил. Я не хотел этого, — сказал он. — Я хотел только убедиться, что вы не страдаете от боли.
Я сказал, что все хорошо и сон пошел мне на пользу.
— Мадам Жан тоже спала, — сказал кюре, — и ваша матушка также. Все больные обитатели замка хорошо отдохнули сегодня. Вам не надо ни о чем волноваться, я взял на себя миссию объяснить им обеим, что с вами произошло, и постарался, как мог, представить все в розовом свете. Вы не против?
— Что вы! — сказал я. — Я очень вам благодарен.
— Прекрасно. Ни одна из них не встревожилась, только сожалеют, что вы завтра не сможете принять участие в охоте.
— Чепуха. Я вполне с этим примирился.
— Вы мужественно ведете себя. Я знаю, какое место охота занимает в вашей жизни.
— Вы ошибаетесь, господин кюре. Какое уж тут мужество… Положа руку на сердце, я и физически, и морально — трус.
Кюре улыбнулся мне, продолжая кивать.
— Полно, полно, — сказал он, — не так уж все плохо, как кажется. Иногда, хуля самого себя, мы потворствуем собственной слабости. Мы говорим: «Я достиг дна бездны, дальше падать некуда» — и чуть ли не с удовольствием барахтаемся во тьме. Беда в том, что это не так. Нет конца злу в нашей душе, как нет конца добру. Это вопрос выбора. Мы стремимся вверх, или мы стремимся вниз. Главное — познать самого себя, увидеть, по какому мы идем пути.
— Падать легче, — сказал я, — нам доказывает это закон земного притяжения.
— Возможно, — сказал кюре, — не знаю. Богу нет дела до земного притяжения, хотя оно такое же чудо, как Божья любовь. А теперь, полагаю, мы оба должны принести Ему благодарность за то, что ваш ожог не был гораздо серьезней.
И кюре опустился на колени. При его росте и тучности это было для него нелегко. Он сложил руки, наклонил голову и стал молиться, не переставая кивать и благодарить Бога за то, что Он уберег меня от большей беды и облегчил мои страдания, а затем добавил, что, поскольку я так люблю охоту и лишиться ее для меня такая утрата, не может ли Бог в своей доброте ниспослать мне в утешение небесную благодать, чтобы я смотрел на то, что со мной случилось, как на Господне благословение…
В то время как кюре с трудом опускался на колени, я размышлял насчет его аналогии с бездной и спрашивал себя, сколько еще мне падать и не было ли охватившее меня чувство стыда всего лишь барахтаньем во тьме, как он сказал. Я встал с кресла, проводил его в холл и посмотрел, как он пересекает террасу и спускается к подъездной дорожке. Начался мелкий дождик, кюре раскрыл огромный зонт и стал похож на гнома под грибом.
Я достаточно долго праздновал труса; я могу, по крайней мере, не показывать, как мне больно. Я нашел Франсуазу в постели; сидя в подушках, она читала Мари-Ноэль жизнеописание «Цветочка». Кюре хорошо выполнил свою миссию: Франсуаза сочувствовала мне, но не тревожилась. Она, по-видимому, думала, что я всего-навсего опалил пальцы, и без конца сокрушалась о том, что я не смогу участвовать в охоте — такое для меня разочарование, — хотя, конечно, она рада, что все это не по ее вине и причиной тому не ее нездоровье.
Мари-Ноэль была странно тихой и присмиревшей; она не присоединилась к разговору, а взяв книжку, ушла в уголок и стала читать сама. Должно быть, утреннее происшествие сильно ее взволновало и она до сих пор не оправилась от потрясения. К обеду я спустился вниз, так как Шарлотта передала через Жермену, что госпожа графиня рано легла и ее нельзя беспокоить, чему я был рад, так как на ее вопросы было бы нелегко ответить.
Поль и Рене не могли говорить ни о чем, кроме предстоящей охоты: когда прибудут гости — многих они называли по именам, — как, если будет сыро, устроить завтрак на ферме. Казалось, моя нелепая выходка дала им наконец счастливую возможность показать себя. Поль, судя по всему, с удовольствием играл роль хозяина, а Рене, поскольку Франсуаза не стояла у нее на пути, а Поль повысился в ранге, неожиданно для себя оказалась в роли хозяйки. Она настаивала на том, что принимать гостей надо на террасе, неважно, дождь или солнце; без конца спрашивала Поля, не выпустил ли он из виду то или другое, напоминала, что в прошлом году забыли это и то, то и дело обращаясь ко мне за подтверждением; в их радости, в их стремлении сделать все по высшему разряду было что — то трогательное; они были похожи на дублеров, которым в последний момент предложили заменить ведущих актеров труппы.
Бланш, оказав мне днем помощь, снова погрузилась в молчание. Она не проявляла никакого интереса к приготовлениям на завтрашний день и лишь сказала, встав из-за стола, что, встретятся гости на террасе в половине одиннадцатого или нет, месса будет, как всегда, в девять. Я спросил себя, уж не выбросила ли она из головы назначения доктора Лебрена, ведь он просил ее перевязать мне руку. По-видимому, та же мысль мелькнула у Рене, потому что, когда мы перешли в гостиную, она сказала:
— Если ты рано поднимешься к себе, Бланш, я могу сама заняться рукой Жана. Где бинты?
— Я перевяжу его сейчас, — быстро ответила Бланш и, тут же вернувшись с оставленным доктором перевязочным материалом, по-прежнему молча протянула руку, чтобы развязать мою.
Закончив, она пожелала всем, кроме меня, доброй ночи. Рене, сев на диван, спросила:
— Разве Мари-Ноэль не спустится к нам поиграть в домино?
— Сегодня — нет, — ответила Бланш. — Я почитаю ей наверху. — И вышла из комнаты.
Минуту спустя Рене сказала:
— Странно, девочка никогда не пропускает игры.
— Она очень расстроилась из-за Жана, — откликнулся Поль, беря одну газету и кидая мне другую. — Я сразу это заметил. Ты следи за ней, не то у нее опять начнутся видения. Я не уверен, что так уж разумно было дарить ей жизнеописание святой Терезы из Лизье.
Вечер тянулся медленно, единственным развлечением были газеты; время от времени Рене поглядывала на меня, улыбаясь сочувственной, заговорщицкой улыбкой, беззвучно спрашивая: «Больно? Не легче?», очевидно, чтобы показать мне, что из-за моей раны мне прощен вчерашний день. Я волновался из-за Мари-Ноэль. Она могла забрать себе в голову, что должна обречь себя на еще какой-нибудь мученический подвиг: надеть на шею железный ошейник или спать на гвоздях, поэтому в половине десятого я попрощался с Рене и Полем и пошел наверх. Я направился прямо в башенную комнатку и распахнул дверь. В комнате было темно, и, нащупав выключатель, я зажег свет. Девочка стояла на коленях у аналоя, сжимая четки, и я понял, что нечаянно прервал молитву.
— Извини, — сказал я. — Я приду, когда ты закончишь.
Мари-Ноэль обратила ко мне отрешенный взгляд, подняв руку, чтобы я молчал. Я стоял в ожидании, не зная, чего она хочет: чтобы я погасил свет или оставил его гореть. Но вот девочка перекрестилась, положила четки у ног Мадонны, встала с колен и забралась под одеяло.
— Я представляла в уме Страсти Господни, — сказала она, — это всегда приводит меня к такому состоянию духа, какое нужно для мессы. Тетя Бланш говорит: если думаешь о посторонних вещах, вспоминай Страсти Господни.
— А о чем ты думала? — спросил я.
— Утром я думала об охоте, о том, какое нас ждет удовольствие. А потом весь день я думала о тебе.
В ее глазах было не столько беспокойство, сколько недоумение. Я облегченно вздохнул. Я не хотел ее напугать.
— Обо мне волноваться нечего, — сказал я, подтягивая одной рукой одеяло. — Рана уже куда лучше, и доктор Лебрен обещает, что через несколько дней все пройдет. Глупый случай — надо же было часам упасть в костер… как я мог забыть, что ремешок еле держится…
— Но часы вовсе не падали в костер, — сказала Мари-Ноэль.
— То есть как — не падали?
Она глядела на меня в замешательстве, дергая простыню, лицо ее залила краска.
— Я была в голубятне, — сказала она. — Я забралась на самый верх и глядела наружу через дырочку возле входа для голубей. Я видела, как ты шел по аллее, размахивая часами. Я хотела тебя позвать, но у тебя был такой серьезный вид, что я передумала. Ты постоял немного у костра и вдруг кинул часы в самую середину. Там не было никакого дыма. Ты сделал это нарочно. Зачем?
Глава 16
Я сел на стул возле кровати. Так было легче говорить, чем стоя. Расстояние между нами стало короче, я был на одном уровне с ней, а не нисходил к ней, как взрослый к ребенку. Я догадался, что Мари-Ноэль объяснила мой поступок желанием избавиться от часов; а когда, пожалев об этом, я попытался вернуть их себе, я и обжегся. То, что я сделал это намеренно, сам причинил себе боль, не пришло ей в голову, но это она легко поймет.
— Часы были только предлогом, — сказал я. — Я не хотел участвовать в охоте, но не знал, как этого избежать, и тут, когда я стоял у костра, мне пришла в голову мысль обжечь руку. Это было просто, но глупо. Успех превзошел ожидания — боль оказалась куда сильней, чем я думал.
Она спокойно слушала. Подняла забинтованную руку, осмотрела со всех сторон.
— Почему ты не притворился, будто ты болен? — спросила она.
— Это бы ничего не дало. Все догадались бы, что это обман и со мной ничего не случилось. Обожженная рука говорит сама за себя.
— Да, — согласилась Мари-Ноэль, — не очень-то приятно, когда тебя выведут на чистую воду. Что ж, теперь ты умерщвил свою плоть и получил хороший урок. Можно мне снова посмотреть на часы?


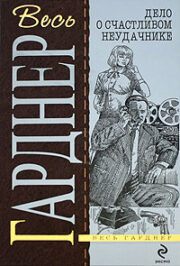

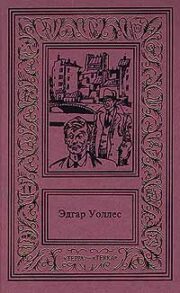

"Козел отпущения" отзывы
Отзывы читателей о книге "Козел отпущения", автор: Дафна дю Морье. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Козел отпущения" друзьям в соцсетях.