Коротко остриженная девочка смотрела на меня неправдоподобно огромными глазами, и я почувствовал, что мне дурно, — передо мной была еще одна копия Жана де Ге, а следовательно, каким-то невообразимым образом того меня, который давно уже был погребен в прошлом.
— Почему ты не пришел пожелать мне доброй ночи, папа? — спросила она.
Глава 6
Она не дала мне времени подумать над ответом. Соскочив с кровати, она приникла ко мне, обвила шею руками, осыпала поцелуями.
— Сейчас же прекрати! Отпусти меня! — крикнул я, пытаясь вырваться.
Она засмеялась, обхватив меня еще сильней, как обезьянка, затем вдруг отскочила и перевернулась через голову обратно на постель. Не потеряв равновесия, она уселась, скрестив ноги, как портной, в изножье кровати и устремила на меня неулыбчивый взор. Я перевел дыхание и пригладил волосы. Мы пожирали друг друга глазами, как звереныши, готовые кинуться в бой.
— Ну? — сказала она; неизбежное «alors?»[21] — вопрос, и восклицание, и ответ одновременно; и я повторил его вслед за ней, чтобы выиграть время и попытаться понять, насколько серьезна эта новая и неожиданная помеха — моя дочь. Затем, пытаясь удержать позиции, сказал:
— Я думал, ты больна.
— А я и была больна… утром. Но когда тетя Бланш померила мне вечером температуру, она оказалась почти нормальной. Может быть, после того как я стояла у окна, она снова подскочила. Сядь. — Она похлопала рукой по постели рядом с собой. — Почему ты не пришел повидаться со мной сразу же, как вернулся?
Держалась она повелительно, как будто привыкла отдавать приказания. Я не ответил.
— Шутник, — небрежно проронила она. Затем протянула руку и, схватив мою, принялась ее целовать.
— Ты делал маникюр? — спросила она.
— Нет.
— У твоих ногтей другая форма и руки чище, чем всегда. Может быть, так влияет на людей Париж? Ты и пахнешь иначе.
— Как?
Она сморщила нос.
— Как доктор, — сказала она, — или священник, или незнакомый гость, которого пригласили к чаю.
— Очень жаль, — сказал я в полном замешательстве.
— Пройдет. Сразу видно, что ты вращался в высоких кругах… Что вы делали в гостиной — обсуждали меня, да?
Какое-то неосознанное чувство подсказало мне, что детей невредно порой одернуть.
— Нет, — ответил я.
— Неправда. Жермена сказала, за обедом только и разговору было, что обо мне. Конечно, из-за того, что ты так долго не приезжал, они тоже подняли шум. Что ты делал?
Я решил говорить правду, когда смогу.
— Спал в отеле в Ле-Мане, — ответил я.
— Что тебе вздумалось? Ты очень устал?
— Я много выпил накануне и ударился головой об пол. И возможно, принял по ошибке снотворное.
— Если бы ты не выпил снотворное, ты бы уехал?
— Уехал? Куда? — спросил я.
— Куда-нибудь и не вернулся бы, да?
— Я тебя не понимаю.
— Святая Дева сказала мне, что ты можешь не вернуться. Вот почему я заболела. — Вся ее повелительность исчезла. Она пристально смотрела на меня, не сводя глаз с моего лица. — Ты забыл, — добавила она, — в чем ты признался мне перед тем, как отправился в Париж?
— А в чем я тебе признался?
— Что когда-нибудь, если жизнь станет слишком трудной, ты просто исчезнешь и никогда не приедешь домой.
— Я забыл, что говорил это.
— Я не забыла. Когда дядя Поль и все остальные принялись толковать о том, как плохо у нас с деньгами, и о том, что ты поехал в Париж, чтобы попытаться все уладить, — но дядя Поль не очень-то надеялся на успех, — я подумала: вот самый подходящий момент, теперь-то папа это и сделает. Я проснулась ночью, мне было плохо, и тут пришла Святая Дева и стала у меня в ногах. Она была такая печальная…
Мне было трудно выдержать прямой взгляд детских глаз. Я посмотрел в сторону и, взяв с кровати потрепанного игрушечного кролика, принялся играть его единственным ухом.
— Что бы ты сделала, — спросил я, — если бы я не вернулся?
— Убила себя, — прозвучал ответ.
Я заставил кролика танцевать на простыне. У меня возникло смутное воспоминание, что давным-давно, в те дни, когда у меня еще были игрушки, это меня смешило. Но девочка не смеялась. Она взяла кролика у меня из рук и спрятала под подушку.
— Дети не убивают себя, — сказал я.
— Так почему ты так бежал сюда десять минут назад?
— Ты могла соскользнуть.
— Нет, не могла. Я держалась. Я часто так стою. Но если бы ты не пришел, это было бы другое дело. Я бы отпустила руку. Я бы прыгнула вниз и разбилась. И горела бы вечным пламенем в аду. Но лучше уж гореть в аду, чем жить в этом мире без тебя.
Я снова посмотрел на нее: маленькое овальное личико, коротко остриженные волосы, горящие глаза. Страстное признание потрясло и испугало меня, таких слов можно ожидать от фанатика, но от ребенка?.. Я изо всех сил старался найти подходящий ответ.
— Сколько тебе лет? — спросил я.
— Ты прекрасно знаешь, что в следующий день рождения мне будет одиннадцать.
— Прекрасно. Перед тобой еще вся твоя жизнь. У тебя есть мать, тети, бабушка, все, кто живет в замке. Они любят тебя. А ты болтаешь дикую чепуху о том, что бросишься в окно, если меня здесь не будет.
— Но я их не люблю, папа. Я люблю одного тебя.
Так-то вот. Мне страшно хотелось курить, и я механически стал шарить рукой в кармане. Заметив это, она соскочила с кровати, подбежала к небольшому бюро, стоявшему сбоку от окна, вынула из отделения коробок и, молниеносно вернувшись, протянула зажженную спичку.
— Скажи, — обратилась она ко мне, — правда, что корь опасна для еще не рожденных детей?
Такая резкая смена настроения была непостижима для меня.
— Maman говорила, что, если я заболею корью и она от меня заразится и заразит маленького братца, он родится слепым.
— Не могу сказать. Я ничего в этих вещах не смыслю.
— Если маленький братец будет слепым, ты станешь его любить?
Куда девалась ее серьезность! Она принялась выделывать пируэты — сперва одной ногой, затем другой. Я понятия не имел, как ей ответить. Танцуя, она не спускала с меня глаз.
— Будет очень грустно, если малыш родится слепым, — сказал я, но она точно не слыхала.
— Вы отдали бы его в больницу? — спросила она.
— Нет, о нем заботились бы здесь, дома. Но так или иначе, нам это не грозит.
— Кто знает. Возможно, у меня и сейчас корь; если так, я, конечно, заразила maman.
Я не мог не воспользоваться ее обмолвкой.
— Ты только что говорила, будто у тебя был жар, потому что ты боялась, вдруг я не вернусь домой, — поймал я ее на слове. — Ты и не упоминала о кори.
— У меня был жар, потому что ко мне спустилась Святая Дева. На меня снизошла Господня благодать.
Она перестала кружиться, легла в постель и прикрыла лицо простыней. Я стряхнул пепел в кукольное блюдце и оглядел комнату. Странное сочетание детской и кельи. Помимо того окна, из которого она обстреливала меня каштанами, в наружной стене было еще одно, узкое, окно, под ним — импровизированный аналой из ящика для упаковки, покрытого сверху куском старой парчи. Над ящиком висело распятие, украшенное четками, а на самом аналое между двумя свечами стояла статуэтка Божьей Матери. Рядом на стене висело изображение Святого Семейства и голова Святой Терезы из Лизье; тут же, на скамеечке, сидела, скособочившись, тряпичная кукла с пятнами краски по всему телу и воткнутой в сердце спицей. На шее у нее была карточка со словами: «Святой Себастьян-мученик». Игрушки, более соответствующие ее возрасту, валялись на полу, а возле кровати стояла фотография Жана де Ге в форме, сделанная, судя по всему, задолго до ее рождения.
Я погасил окурок и встал. Фигура под одеялом не шевельнулась.
— Мари-Ноэль, обещай мне что-то.
Никакого ответа. Делает вид, что спит. Неважно.
— Обещай мне, что больше не будешь влезать на подоконник.
Молчание, а затем тихое царапанье; вот оно приостановилось, снова раздалось, теперь громче. Я догадался, что она скребет ногтями спинку кровати, подражая мышам или крысам. Из-под одеяла донесся громкий писк, она взбрыкнула ногой.
Давно забытые присловья, которыми взрослые выражают детям свое неодобрение, стали всплывать у меня в уме.
— Не умно и не смешно, — сказал я. — Если ты сейчас же мне не ответишь, я не пожелаю тебе доброй ночи.
Еще более громкий крысиный писк и яростное царапанье в ответ.
— Очень хорошо, — сказал я твердо и распахнул дверь. Чего я хотел добиться этим, один Бог знает, все козыри были в ее руках, ей достаточно было подойти снова к окну, чтобы это доказать.
Но, к моему облегчению, угроза подействовала. Девочка скинула простыню, села на постели и протянула ко мне руки. Я неохотно подошел.
— Я пообещаю, если ты тоже дашь мне обещание, — сказала она.
Это звучало разумно, но я чувствовал, что тут скрыта ловушка. Разобраться во всем этом мог разве Жан де Ге, не я. Я не понимаю детей.
— Что я должен обещать? — спросил я.
— Не уходить навсегда и не оставлять меня здесь, — сказала она. — А уж если должен будешь уйти — взять меня с собой.
И снова я не мог ответить на прямой вопрос в её глазах. Я попал в немыслимое положение. Мне удалось успокоить мать, угодить жене. Перед дочерью я тоже должен сложить оружие?
— Послушай, — сказал я, — взрослые не могут связывать себя такими обещаниями. Кто знает, что нас ждет в будущем? Вдруг снова начнется война…
— Я не о войне говорю, — сказала она.
В ее голосе звучала странная, извечная мудрость. Хоть бы она была постарше или много моложе, вообще другая. Не тот у нее был возраст. Возможно, я отважился бы сказать правду подростку, но десятилетнему ребенку, еще не покинувшему тайный мир детства, — нет.





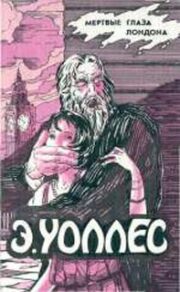
"Козел отпущения" отзывы
Отзывы читателей о книге "Козел отпущения", автор: Дафна дю Морье. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Козел отпущения" друзьям в соцсетях.