Благодаря тому, что Мансур принял ислам, арабы относились к нему с меньшим недоверием, и Кочрейн успел не раз случайно улавливать их интимные беседы. Гордая, несколько надменная, аристократическая натура Кочрейна долго боролась против такого решения – обратиться за советом к такому человеку, как Мансур.
– Эй, ты, драгоман, так как эти разбойники придерживаются одних и тех же взглядов, что и ты, то имея в виду, что мы желали бы протянуть эту историю еще сутки, после чего нам уже будет все равно, чем бы это ни кончилось, – что ты нам посоветуешь сделать, чтобы выиграть время?
– Вы уже знаете мой совет, – отвечал драгоман. – Если вы все согласитесь принять ислам, как это сделал я, то будете живыми доставлены в Хартум; если же не согласитесь на это, то не уйдете живыми с ближайшего привала!
Полковник отвечал не сразу: ему трудно было совладать с душившим его гневом и негодованием.
– Это оставим, есть вещи возможные, и есть такие, которые не считаются возможными!
– Но ведь вам стоит только сделать вид!
– Довольно! – оборвал его Кочрейн.
Мансур только пожал плечами.
– Какой же смысл имело спрашивать меня, когда вы сердитесь, если я отвечаю вам по своему искреннему убеждению? Если вы не хотите поступить, как я советую, то попробуйте сделать по-своему. Во всяком случае, вы не можете сказать, что я не сделал всего, от меня зависящего, чтобы спасти вас!
– Я не сержусь, – сказал Кочрейн, помолчав немного, более примирительным тоном. – Ты можешь сказать от нашего имени этому их мулле, что мы уже несколько смягчились и готовы его слушать; когда он явится обращать нас, мы можем сделать вид что интересуемся его поучениями и просим разъяснений, таким образом мы протянем еще день-другой. Как ты думаешь, не будет ли это всего лучше?
– Вы можете делать, как знаете, – проговорил Мансур, – я же сказал вам, что думаю. Но если вы желаете, чтобы я поговорил с муллой, я это сделаю. Это вон тот тучный, седобородый старик на темном верблюде. Он составил себе громкую репутацию обращением неверных и весьма гордится ею, и потому, конечно, будет настаивать на том, чтобы вы остались невредимы, если он будет надеяться обратить вас в ислам.
– Кстати, не говорил вам чего-нибудь Типпи-Тилли?
– Нет, сэр, он старался держаться вместе с остальными его единомышленниками как можно ближе к нам, но до сих пор все еще не мог придумать, как бы помочь вам!
– И я также ничего не могу придумать. А пока ты поговори с муллой; я же передам своим, на чем мы порешили.
Все единогласно одобрили решение Кочрейна, за исключением мисс Адамс, которая наотрез отказалась даже выказать какой-нибудь интерес к магометанской вере.
– Я слишком стара, – говорила она, – чтобы преклонять колена перед Ваалом! – Но при этом она обещала не протестовать ни против чего, что ее друзья по несчастью найдут нужным делать или говорить.
– Кто же из нас будет беседовать с муллой? – спросил Фардэ. – Весьма важно, чтобы провести эту роль вполне естественно, и чтобы проповедник не мог заподозрить, что мы стараемся только протянуть время.
– Так как это предложение Кочрейна, то пусть он и говорит за нас! – произнес Бельмонт.
– Простите меня, – возразил француз, – я отнюдь не хочу ничего сказать против нашего друга, полковника Кочрейна, но ни один человек не может быть способен ко всякому делу; уверяю вас, что из всего этого ничего не выйдет, если говорить за нас будет полковник!
– В самом деле? – с достоинством переспросил Кочрейн. – Вы так думаете?
– Да, друг мой, и вот почему: подобно большинству ваших соотечественников, вы слишком высокомерны и в душе относитесь с презрением ко всему, что не английское. Это – большая ошибка вашей нации…
– Ах, к черту эту политику! – воскликнул Бельмонт. – До того ли нам теперь!
– Я вовсе не говорю о политике, а только хочу этим сказать, что полковник не лицемер, и ему будет трудно делать вид, будто он с интересом относится к тому, что его ничуть не интересует!
Кочрейн сидел, вытянувшись в струнку и с совершенно безучастным лицом, словно речь шла вовсе не о нем.
– Вы можете говорить сами, если желаете, – проговорил он, – я буду очень доволен, если вы избавите меня от этой чести!
– Да, я, думаю, более пригоден, так как действительно искренно интересуюсь всеми вероисповеданиями и одинаково уважаю как католичество, так и другие религии!
– И я того мнения, что всего лучше будет, если мы предоставим monsieur Фардэ беседовать с муллой! – сказала миссис Бельмонт, и на этом вопрос был решен.
Солнце поднялось уже высоко и светило ослепительно ярким светом на побелевшие от времени кости, которыми усеяна была дорога, и на головы бедных пленников. Вместе с его палящими лучами явилась мучительная жажда, и снова в воображении их начинал рисоваться салон «Короско» со столом, накрытым белоснежной скатертью, уставленным хрусталем, с длинными горлышками кувшинов и стройным рядом сифонов на открытом буфете.
Вдруг Сади, которая все время была таким молодцом, впала в истерику; ее судорожные вскрикивания и беспричинный, дикий смех ужасно действовали на нервы. Мисс Адамс и Стефенс ехали как можно ближе к ней, чтобы не дать ей упасть; наконец, окончательно обессилев, девушка впала в состояние, близкое к забытью. Бедные вьючные верблюды, казалось, были столь же истомлены, как и их седоки; их поминутно приходилось понукать, дергая за кольцо, проткнутое в ноздри и заменяющее уздечку.
Путь все еще лежал вдоль усеянной остовами большой караванной дороги; подвигались медленно, и уже не раз оба эмира объезжали караван сзади, озабоченно покачивали головами, глядя на вьючных верблюдов, на которых ехали пленные. Особенно отставал один старый верблюд, сильно прихрамывавший, на котором ехал раненый суданский солдат. Эмир Вад Ибрагим подскакал к нему и, вскинув свой ремингтон к плечу, выстрелил бедному животному прямо в голову: когда верблюд упал, раненый солдат вылетел из седла далеко вперед, грузно упал на землю. Пленные невольно обернулись назад и увидели, как он силится подняться на ноги с недоумевающим выражением лица; в этот самый момент один из баггара проворно соскользнул со своего верблюда и занес над головой раненого свой большой нож.
– Не смотрите, не смотрите! – крикнул дамам Бельмонт, и все они продолжали ехать, не оборачиваясь, но с сильно бьющимся в груди сердцем, невольно сознавая, что там, сзади, происходит что– то ужасное, хотя никто из них не слышал ни стона, ни звука. Минуту спустя сухощавый баггара нагнал и обогнал их, вытирая на ходу свой длинный нож о косматую шею верблюда.
По пути встречалось много такого, что могло интересовать пленных, если бы они только были в состоянии что-либо видеть или замечать. Время от времени попадались на краю большой караванной дороги остатки старинных построек из сырого кирпича, очевидно, вывезенного сюда из Нижнего Египта. Эти постройки предназначались некогда служить временными убежищами для путников и защитой от разбойников – этих пиратов пустыни, какие всегда встречались на пути караванов. В одном месте, на вершине небольшого песчаного кургана, наши путешественники заметили обломок красивой колонны из красного асуанского гранита с изображением белокрылого бога Египта и медальонов с изображением Рамзеса II. Даже спустя три тысячелетия, повсюду виден след этого великого царя-воителя. Его изображение здесь на колонне являлось добрым знамением для пленных, оно говорило, что они всё еще в пределах Египта, что их соотечественники еще могут отбить их у похитителей.
– Египтяне уже однажды побывали здесь! – сказал Бельмонт. – Значит, они могут побывать здесь и еще раз!
Все попытались улыбнуться его словам, но теперь им уже как-то плохо верилось в возможность спасения.
Но – о счастье! То тут, то там на краю дороги в маленьких углублениях почвы виднелась едва заметная зеленая травка: это означало, что на незначительной глубине есть вода. И вдруг совершенно неожиданно дорога стала спускаться под уклон, в глубокую котловину, дно которой было покрыто сочной свежей зеленью, а посреди возвышалась группа нарядных пальм.
Этот прелестный оазис среди безотрадной африканской пустыни казался драгоценным изумрудом в оправе из красной меди. Но не одна краса этого пейзажа манила взоры усталых, измученных путников. Нет, этот уголок рая сулил им и отдых, и отраду, и облегчение от мучившей их жажды. Действительно, здесь было семь колодцев больших и два маленьких. Это были мискообразные углубления, вырытые в земле и наполненные водою, черной и холодной, до краев. В них хватало воды на самые многочисленные караваны. Даже Сади, находившаяся все время в полусознательном состоянии, как будто ожила: и ее радовала эта зеленая трава, этот клочочек тени. Усталые, измученные животные далеко протягивали вперед свои длинные шеи, с видимым наслаждением втягивая в себя воздух.
Здесь сделали привал. И люди, и верблюды напились вволю. Верблюдов привязали к кольям. Арабы разостлали в тени свои циновки, на которых расположились спать, а пленные, приняв свою порцию дурро и фиников, получили разрешение делать, что хотят, в течение всего дня, а перед закатом к ним должен был явиться мулла – наставлять в «правой вере».
Дамам предоставили расположиться в густой тени акаций, мужчины же удовольствовались тенью пальм. Их широкие и большие листья ласково шелестели у них над головами; тихий степенный говор арабов некоторое время доносился до них, равно как и мерное, медленное чавканье верблюдов.
Глава 8
Полковник Кочрейн вдруг почувствовал, что кто-то трогает его за плечо. Обернувшись, он увидел перед собой возбужденное черное лицо негра Типпи-Тилли. Тот держал палец у рта, в знак молчания, и глаза его тревожно бегали по сторонам.
– Лежите смирно! Не шевелитесь! – прошептал он Кочрейну в самое ухо. – Я здесь лягу рядом с вами; они не отличат меня от других… Постарайтесь понять меня, я имею сказать вам нечто важное!

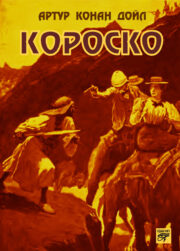


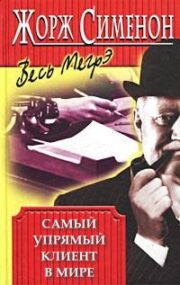
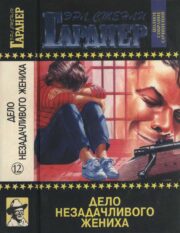
Книга «Короско» Артура Конан Дойла представляет собой захватывающее чтение. Это история о дружбе между двумя друзьями, Короско и Ральфом, которые противостоят всем ветрам и преодолевают все препятствия вместе. Эта книга поднимает вопросы о том, как дружба может помочь нам преодолеть любые препятствия и достичь успеха. Короско и Ральф представляют идеальный пример дружбы и преодоления препятствий. Эта книга помогает нам понять важность дружбы и принципы взаимопомощи. Я очень рекомендую эту книгу всем, кто ищет захватывающую историю о дружбе и преодолении препятствий.