– Могу я говорить с вами, полковник? – спросил у Кочрейна подъехавший драгоман.
– Нет! – резко и пренебрежительно отрезал старый вояка.
– А между тем это крайне важно для вас, чтобы вы выслушали меня: от этого зависит спасение всех вас!
Кочрейн насупился и стал теребить свой длинный ус.
– Так что же ты хочешь сказать? – спросил он, не глядя на Мансура.
– Прежде всего, вы должны совершенно довериться мне, хотя бы уже потому, что мне так же важно вернуться в Египет, как и вам, там у меня жена, дети, дом. А здесь я до самой смерти буду невольником, буду работать, как вол, и жить, как бездомный пес!..
– Ну, что же дальше?
– Вы уже знаете того чернокожего, который был при Хикс-паше; он в эту ночь ехал рядом со мной и долго беседовал. Он говорил, что плохо понимает вас и что вы тоже плохо его понимаете; поэтому он решил обратиться к моему посредничеству!
– Что же он сказал тебе?
– Он говорил, что среди арабов есть восемь человек солдат из египетской армии, пятеро чернокожих и двое феллахов, и они желают, чтобы вы пообещали им от своего имени и от имени всех остальных господ каждому приличное вознаграждение, если они помогут вам спастись и бежать от арабов!
– Дураку понятно, что мы готовы обещать приличное вознаграждение! Я готов поручиться за всех!
– Они желают получить не менее, как по сто египетских фунтов каждый! – заметил Мансур.
– Можешь обещать им эти деньги! Скажи им, что они получат их тотчас же, как только мы перейдем границу. Но что они, собственно, предлагают сделать? – осведомился Кочрейн.
– Они говорят, что ничего определенного сейчас обещать не могут, а пока будут ехать, держась все время как можно ближе около вас, чтобы, в случае если представится возможность спасения, они могли во всякое время воспользоваться ею; они будут стараться отрезать арабов от вас и стать между ними и вами, – а там дальше видно будет, что можно будет сделать!
– Прекрасно, ты можешь сказать им, что каждый из них получит по двести египетских фунтов, если только они сумеют вырвать нас из рук арабов. Нельзя ли подкупить и кого-нибудь из последних?
– Риск попытки слишком велик; можно разом погубить все дело, и тогда всем нам тут же конец! Я пойду и скажу черномазому ваш ответ; я вижу, что он уже поджидает меня! – и драгоман удалился.
Эмир рассчитывал сделать привал не дольше, как на полчаса, но при тщательном осмотре верблюдов оказалось, что вьючные животные, на которых ехали пленники, были до того изнурены длинным и быстрым переходом, который им пришлось совершить, что не было никакой возможности заставить их идти дальше, не дав передохнуть хоть час или полтора. Бедняги вытянули свои длинные шеи по земле, что является крайним признаком утомления у этих животных. Эмиры, осматривавшие во время привала караван, озабоченно покачали головами; затем жестокие блестящие глаза старого Абдеррахмана остановились на пленных; он сказал несколько слов Мансуру, лицо которого мгновенно побледнело, как полотно.
– Эмир говорит, – перевел он, – что если вы не согласны все до единого принять ислам, то не стоит задерживаться целому каравану ради того, чтобы довезти вас до Хартума на вьючных верблюдах. Ведь, если бы не вы, они могли совершать переходы вдвое быстрее, а потому он теперь же желает знать, согласны ли вы принять Коран? – Затем, не изменяя интонации голоса, как будто он все еще продолжает переводить слова эмира, Мансур добавил от себя: – Советую вам, господа, согласиться, так как иначе он всех вас прикажет прирезать!
Несчастные пленники в смущении взглянули друг на друга, а оба эмира с суровыми, величавыми лицами стали ожидать ответа.
– Что касается меня, – произнес Кочрейн, – то я скорее согласен умереть здесь теперь же, чем невольником в Хартуме!
– Как ты думаешь, Нора? – обратился Бельмонт к жене.
– Если мы умрем вместе, дорогой Джон, то смерть мне не кажется страшной! – ответила эта прелестная, храбрая женщина.
– Это нелепо – умирать за то, во что я никогда не верил! – бормотал вполголоса Фардэ. – А вместе с тем, для моей чести француза оскорбительно быть обращенным насильно в магометанство! – и он гордо выпрямился и, заложив раненую руку за борт сюртука, торжественно произнес. – Я случайно родился христианином и останусь им!
– А вы что скажете, мистер Стефенс? – спросил Мансур почти молящим голосом. – Ведь если хоть один из вас согласится принять их веру, это значительно смягчит их по отношению к нам!
– Нет, и я не могу согласиться! – спокойно и просто, сухим, деловым тоном ответил юрист.
– Ну, а вы, мисс Сади? Вы, мисс Адамс? Скажите только слово, и вы будете спасены!
– Ах, тетечка, как вы думаете, не согласиться ли нам? – пролепетала испуганная девушка. – Или это будет очень дурно, если мы согласимся?
Мисс Адамс заключила ее в свои объятия.
– Нет, нет, дорогое дитя мое, милая моя, бедная моя девочка, нет, ты будешь тверда духом; ты не поддашься этому искушению; ты бы потом сама возненавидела себя за это!
Все они были героями в эти минуты, все смотрели смело в глаза смерти, и чем ближе заглядывали ей в лицо, тем менее она им казалась ужасна и страшна. Драгоман пожал плечами и сделал такое движение рукой, какое делают обыкновенно после того, как попытка, к которой было приложено всякое старание, в конце концов, не удалась.
Эмир Абдеррахман понял этот жест и сказал что-то близ стоявшему негру, который тотчас же куда-то отбежал.
– На что ему ножницы? – удивленно спросил полковник, поняв, о чем шла речь.
– Он хочет истязать женщин! – сказал Мансур все с тем же жестом бессилия.
Холодная дрожь пробежала по спинам пленных. Все они были готовы умереть; каждый из них был согласен перенести свою долю мучений, но быть свидетелями мучений кого-либо из своих – это уже было свыше их сил; в эти тяжелые часы общего несчастья они научились дорожить друг другом, страдать и мучиться друг за друга, и каждый был готов пожертвовать собою за каждого из этих ближних. Все они стали теперь как братья между собой, все любили друг друга, как самого себя, как предписывало евангельское учение Христа. Женщины, бледные и дрожащие, молчали, но мужчины волновались, совещались, теряя голову.
– Где пистолет, мисс Адамс? Дайте его сюда, мы не дадим себя истязать! Нет, нет! Этого мы не потерпим! – говорил Бельмонт.
– Предложите им денег, Мансур, сколько хотят денег! – восклицал Стефенс. – Скажите, что я готов стать магометанином, если только они оставят женщин в покое. Что же, это, в сущности, ни к чему не обязывает, так как делается по принуждению… так сказать, почти насильственно. Так и скажите, что я согласен, пусть только женщин не трогают, я не могу вынести, чтобы их мучили!
– Нет, погодите немного, милый Стефенс, – остановил его Кочрейн, – не надо терять голову! Все мы готовы решиться на что угодно, чтобы спасти наших дам, в этом я уверен; но мне кажется, что я нашел иной, лучший способ разрешить этот вопрос. Слушай, драгоман! Скажи этому седобородому дьяволу, что мы ничего не знаем из его распроклятой, чертовской веры, конечно, скажи ему все это помягче, как ты умеешь говорить, объясни, что мы не знаем, в какого рода нелепости нам должно верить для спасения наших шкур, что если он вразумит нас, растолкует нам свою тарабарщину, то мы согласны слушать его. При этом можешь прибавить, что какая бы ни была та вера, которая порождает таких чудовищ, как он или как тот чернобородый боров, – она должна, несомненно, привлечь к себе сердца всех. Понял?
И вот, с бесчисленными поклонами и молящими жестами, драгоман передал эмиру, что христиане все сильно сомневаются в правоте своей веры, и что стоит только несколько просветить их разум светом учения пророка, как все они прославят Аллаха, сделавшись верными последователями Корана. Оба эмира задумчиво поглаживали свои бороды во время речи переводчика, недоверчиво и подозрительно посматривая на своих пленных. Наконец, немного помолчав, Абдеррахман сказал что-то Мансуру, после чего оба араба медленно удалились.
Спустя минуту, подан был сигнал к отправлению, – и все стали садиться на своих верблюдов.
– Вот что он приказал сказать вам, – сообщил Мансур, ехавший посреди группы пленных. – Около полудня мы будем у колодцев, и там будет большой привал. Тогда его собственный мулла, прекрасный и очень умный человек, будет в продолжение целого часа беседовать с вами о Коране и поучать вас в вере. По окончании же этой беседы вы должны будете избрать то или другое: или следовать далее до Хартума, или быть преданы смерти тут же на месте. Таково его последнее слово!
– Они не желают получить выкупа?
– Вад Ибрагим взял бы, но эмир Абдеррахман ужасный, жестокий и беспощадный человек. Поэтому советую вам уступить ему!
– А сам ты, Мансур, как поступишь? Ведь ты тоже христианин?
Густая краска залила лицо Мансура.
– Я был им вчера и, быть может, буду завтра. Я служил Господу, пока это было возможно. Но когда что-либо невозможно, против этого, думаю, и сам Господь не восстанет! – и, сконфуженный, он поспешил отъехать в сторону и смешался с группой конвойных.
Судя по этому, можно было видеть, что перемена религии поставила его на совершенно другую ногу.
Итак, несчастным была дана отсрочка на несколько часов, но смерть уже распростерла над ними свои мрачные крылья. Что такое представляет собою эта земная жизнь, что все мы так цепляемся за нее? Это не удовольствия, не радости жизни, так как даже и те, для кого жизнь не что иное, как ряд тяжких страданий и мук, с ужасом отшатываются назад, когда смерть готова протянуть над ними свой успокоительный покров. Нет, нас пугает страх потерять то дорогое, родное, любимое «я», с которым мы так свыклись, о котором всю жизнь не переставали думать и заботиться, которое, мы думаем, так прекрасно изучили и знаем, что однако не мешает, чтобы это самое «я» поминутно совершало такие дела и поступки, которые удивляют нас. Это ли чувство заставляет умышленно самоубийцу в последний момент схватиться за перила моста, чтобы еще хоть на мгновение повиснуть над рекой, которая должна унести его в бездну? Или же то сама природа из опасения, что все ее усталые, замученные труженики вдруг разом побросают свои кирки и лопаты, придумала этот страх, чтобы удержать их на их тяжелой работе? Но он существует, этот страх смерти, и все исстрадавшиеся люди радуются, что им даны еще несколько часов этих мучений и терзаний.

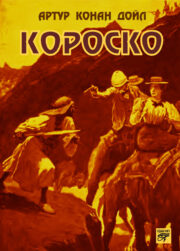
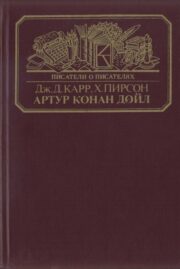

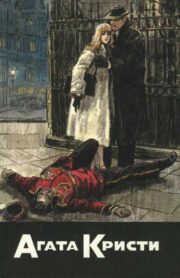
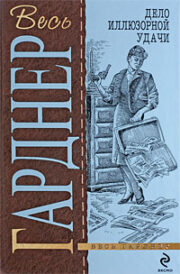
Книга «Короско» Артура Конан Дойла представляет собой захватывающее чтение. Это история о дружбе между двумя друзьями, Короско и Ральфом, которые противостоят всем ветрам и преодолевают все препятствия вместе. Эта книга поднимает вопросы о том, как дружба может помочь нам преодолеть любые препятствия и достичь успеха. Короско и Ральф представляют идеальный пример дружбы и преодоления препятствий. Эта книга помогает нам понять важность дружбы и принципы взаимопомощи. Я очень рекомендую эту книгу всем, кто ищет захватывающую историю о дружбе и преодолении препятствий.