Обижен, исполнен гордыни и горького разочарования до конца. Потому что это конец. Я знаю это, и ты тоже знаешь. Теперь ты уже не можешь исцелиться, ты сам себя уничтожил, и уничтожил навсегда. Тебя все боятся, тебя все ненавидят – и друзья, и недруги. Генерал короля на западе. Мужчина, которого я люблю. После того как острова Силли отошли к парламенту, а Джек и Банни, посетив Голландию и Францию, приехали ненадолго домой, они прискакали на лошадях из Стоу в Менебилли повидать Рашли, а заодно заглянули и в Тайуордрет, чтобы засвидетельствовать мне свое почтение. Мы заговорили о Ричарде, и Джек почти сразу сказал:
– Мой дядя очень изменился, вы бы с трудом его узнали. Он целыми часами сидит у окна своей жалкой спаленки, молча наблюдая за тем, как идет нескончаемый дождь, – боже, какие в Голландии дожди! – и никого не желает видеть. Помните, как он подшучивал над нами и надо всеми молодыми парнями? Сейчас же если он и подает голос, то лишь для того, чтобы уязвить, подобно брюзгливому старику, уколоть посетителя.
– Король никогда больше не прибегнет к его услугам, и он это знает, – сказал Банни. – Ссора с двором его ожесточила. С его стороны было безумием раздувать огонь своей давней вражды с Хайдом[2].
Более проницательный Джек, встретившись со мной взглядом, выпалил:
– Дядя всегда был сам себе злейшим врагом. Онор это знает. Он чертовски одинок, это правда. И впереди его ждут бесплодные годы.
Мы немного помолчали. У меня болело сердце за Ричарда, и мальчики это почувствовали.
– Мой дядя никогда не вспоминает о Дике, – вновь заговорил Банни, понизив голос. – Наверное, мы теперь так никогда и не узнаем, какая ужасная судьба его постигла.
Я почувствовала, как спина у меня похолодела, и меня охватил знакомый жуткий приступ страха. Я отвернулась, чтобы мальчики не увидели моих глаз.
– Да, – медленно проговорила я, – мы никогда не узнаем.
Банни барабанил пальцами по столу, а Джек машинально перелистывал страницы книги. Я смотрела на спокойные воды залива и на небольшие рыбацкие шхуны, медленно огибавшие Блэкхед со стороны Горран-Хейвена. Их паруса в лучах заходящего солнца казались янтарными.
– Если он попал в руки неприятеля, – продолжал Банни, как бы рассуждая сам с собой, – почему этот факт утаили? Я до сих пор не нахожу этому объяснения. Сын Ричарда Гренвила был ценной добычей.
Я не ответила. Рядом со мной ерзал Джек. То ли после женитьбы – уже несколько месяцев Джек был женат – он стал более чувствителен, то ли всегда обладал большей интуицией, чем Банни, но я поняла: он чувствовал, как я расстроена.
– Нет смысла ворошить прошлое, – сказал он. – Мы утомляем Онор.
Спустя некоторое время они поцеловали мне руку и ушли, пообещав заглянуть еще раз перед отъездом во Францию. Я смотрела, как они уносились вдаль, пустив лошадей галопом, – молодые, свободные и не тронутые временем, которое ушло. Будущее принадлежало им. Когда-нибудь король вернется в свою страну, и Джек и Банни, так храбро сражавшиеся за него, будут вознаграждены. Я представляла их в Стоу или в Лондоне – в Уайтхолле: изысканные и состоятельные молодые люди, у которых впереди – целая эпоха преуспеяния.
О гражданской войне забудут, так же как и о поколении, сражавшемся за правое дело и потерпевшем неудачу. О моем поколении, которому ничего не оставлено в наследство.
Я лежала в кресле, наблюдая, как сгущаются сумерки, когда вошел Робин и, сев рядом, справился в своей грубоватой, но мягкой манере, не устала ли я, выразил сожаление, что не застал братьев Гренвил, и принялся рассказывать мне о каком-то пустячном скандале, случившемся в суде Тайуордрета. Я делала вид, что слушаю, со странным чувством жалости думая о том, какое значение он придает сейчас этим тривиальным газетным сообщениям. Я вспомнила, как он и его друзья обессмертили себя доблестной и такой бессмысленной обороной замка Пендиннис в те трагические месяцы сорок шестого года – какой гордостью за них переполнялись тогда наши сердца, – а он продолжал молоть какой-то вздор о пяти курицах, украденных у одной вдовы в Сент-Блейзи. Быть может, я не столько цинична, сколько сентиментальна. Как раз в эту минуту мне впервые пришла в голову мысль освободиться от этого бремени, изложив события последних лет на бумаге. Война, и как она изменила наши жизни; как все мы были застигнуты врасплох и сломлены ею, как безысходно она перемешала наши судьбы. Гартред и Робин, Ричард и я, семья Рашли – все оказались заперты в этом доме, полном тайн, – стоит ли удивляться, что мы потерпели поражение? И сейчас еще Робин каждое воскресенье ездит обедать в Менебилли. Но я – нет, благо оправданием мне служит состояние моего здоровья. Зная то, что я знаю, я не смогла бы снова туда поехать. О Менебилли – усадьбе, где разыгралась драма наших жизней, – мне известно достаточно много, ибо находится она всего лишь в трех милях отсюда, от Тайуордрета. В доме так же голо и уныло, как в сорок восьмом году, когда я видела его в последний раз. У Джонатана нет ни желания, ни денег, чтобы восстановить дом, вернуть ему первоначальный вид. Мэри, он и их внуки занимают только одно крыло. Я молю Бога, чтобы они так никогда и не узнали о финальной трагедии. Два человека унесут эту тайну с собой в могилу: Ричард и я. Он – в Голландии, в сотнях миль отсюда, я покоюсь на своем ложе в Тайуордрете, и зловещая тень контрфорса неотступно преследует нас обоих. Когда Робин отправляется по воскресеньям в Менебилли, я мысленно его сопровождаю. Вместе с ним я пересекаю парк и подхожу к высоким стенам, окружающим дом. Ворота во внутренний двор открыты, западный фасад смотрит прямо на меня. Последние лучи солнца проникают в мою бывшую спальню над воротами, поскольку решетка перед окнами открыта, но сами окна закрыты. Они увиты побегами плюща. Гладкий камень наружной части контрфорса над окном порос мхом. Солнце исчезает, и снова на западный фасад опускается тень. Рашли там обедают и спят, при свечах укладываются в постели и грезят. Я же, находясь в трех милях оттуда, в Тайуордрете, просыпаюсь посреди ночи от врывающегося ко мне крика мальчика, от стука его пальцев в стену, и вот в темноте ночи, живой, страшный, обвиняющий, является мне призрак сына Ричарда. Я сажусь в постели, покрывшись потом от ужаса. Услышав, что я проснулась, входит и зажигает свечу верная Мэтти.
Она заваривает чай, массирует мою больную спину, набрасывает мне на плечи шаль. Робин спит в соседней комнате спокойным сном. Я беру в руки книгу, но слишком силен напор моих мыслей, чтобы я могла забыться. Мэтти приносит бумагу и перо, и я начинаю писать. Мне нужно сказать так много, а времени на это отпущено так мало. Ибо я не заблуждаюсь насчет своего будущего, помимо выражения лица Робина, мой собственный инстинкт подсказывает мне, что эта осень будет последней. И пока защитительная речь моего Ричарда обсуждается высшим светом и прочно занимает место в архивах этого XVII века, моя объяснительная записка последует за мной в могилу и, непрочитанная, обратится в прах вместе со мной.
Я выскажу за Ричарда то, чего он никогда не говорил сам, и я покажу, как, несмотря на его досадные недостатки и слабости, стало возможным, что женщина полюбила его всем сердцем, всем своим разумом и телом и что эта женщина – я. Я пишу глубокой ночью, при зажженной свече. Церковный колокол в Тайуордрете отсчитывает первые утренние часы, и ни один звук не достигает моего слуха, кроме вздохов ветра за окном да бормотания прилива, поднимающегося через отмели к топям вниз от моста Сент-Блейзи.
Глава 2
Впервые я увидела Гартред, когда мой старший брат Кит привез ее в Ланрест, представив нам как свою невесту. Ей было двадцать два года, а мне, самой младшей в семье, если не считать Перси, десять лет. Мы были большой счастливой семьей, очень дружной и независимой. Мой отец Джон Харрис ничем не интересовался, кроме лошадей, собак да мирных дел своей крохотной усадьбы. Ланрест не был большим имением, но, окруженный кольцом ветвистых деревьев, возвышался над долиной Лу – одно из тех спокойных, ухоженных поместий, которые как бы дремлют из года в год. Мы очень его любили. Еще и сегодня, по прошествии тридцати лет, стоит мне только закрыть глаза и подумать о доме, как в ноздри тут же ударяет такой знакомый аромат нагретого солнцем сена, приносимый легким ветерком. Я вижу огромное колесо, взбивающее воду на мельницах Ламеттона, ощущаю запах пыльного золотистого зерна. Небо всегда было белым от голубей. Они летали, проносились над нашими головами, такие ручные, что клевали зерно прямо у нас на ладонях. Расхаживающие с важным видом и воркующие, надутые и гордые, они создавали атмосферу уюта. В последующие годы их тихое воркование долгими осенними вечерами успокаивало меня, когда другие отправлялись на соколиную охоту, смеясь и громко переговариваясь, а я больше не могла составить им компанию. Но это уже другая глава. Я рассказывала о моей первой встрече с Гартред. Свадьбу сыграли в ее доме, в Стоу, и мы с Перси, по причине какого-то детского заболевания, на ней не присутствовали. Это нелепейшим образом с самого начала породило во мне чувство обиды. Я, несомненно, была испорчена своими старшими братьями и сестрами, которые меня баловали, так же как и родители, но я вбила себе в голову, что невеста брата не желала видеть на своей свадьбе детей и боялась, что мы можем ее заразить.
Мне вспоминается, как я сижу в постели – глаза лихорадочно блестят – и спорю со своей матерью. «Когда выходила замуж Сесилия (Сесилия – это моя старшая сестра), мы с Перси несли шлейф, – говорю я. – И вместе со всеми ездили в Матеркомб, и Поллексефены нас очень хорошо приняли, правда, мы с Перси так наелись, что у нас разболелись животы». Мать сказала только, что на сей раз все иначе: Стоу – не Матеркомб, Гренвилы – не Поллексефены – что мне казалось весьма слабым аргументом, – и она никогда бы себе не простила, если бы мы передали нашу простуду Гартред. Все упиралось в Гартред. Остальное не имело значения. Невообразимый переполох поднялся, когда начали готовить спальню для молодоженов. Принесли новые портьеры, ковры, гобелены – все это, чтобы у Гартред не сложилось впечатления, будто Ланрест убог или запущен. Слуг заставили подмести полы, вытереть пыль, дом ходил ходуном: все суетились, работали не жалея сил.


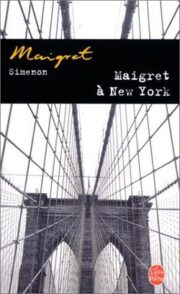

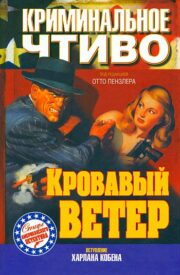
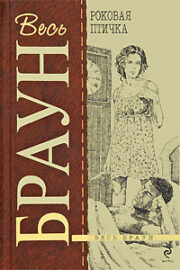
Невероятно захватывающие события!
Великолепное путешествие в прошлое!
Захватывающее чтение!
Прекрасно подана история!
Я прочитала книгу Дафны дю Морье «Королевский генерал» и была поражена глубиной и масштабом ее истории. Это произведение представляет собой настоящее произведение искусства, полное проникновенных и вдохновляющих персонажей, которые преодолевают все препятствия и преодолевают все препятствия на пути к своей мечте. Книга подарила мне много мыслей и эмоций, и я очень рекомендую ее всем, кто ищет нечто большее, чем просто интересная история.
Удивительные персонажи!
Прекрасно написано!
Очень вдохновляющая история!
Отличное произведение искусства!