Пьеса продержалась всего месяца четыре-пять, пока не скончалась в Уэст-Энде, но лет через двадцать пьесу возобновили с незначительными изменениями, и она сделалась репертуарной.
Сюжеты пьеc-боевиков обычно перекликаются, разница лишь в том, кто Враг. Международная банда а-ля Мориарти восходит к немцам-«гансам» первой мировой, им на смену приходят коммунисты, в свою очередь вытесненные фашистами. То у нас враги русские, то китайцы, то вновь обращаемся к международной банде, но Господин Преступник, жаждущий мирового господства, всегда с нами.
Автором пьесы «Алиби», первой, которую должны были ставить по одной из моих книг — «Убийство Роджера Акройда», был Майкл Мортон. Он поднаторел на инсценировках. Мне очень не понравилось, когда он сразу предложил омолодить Пуаро лет на двадцать, переименовать в Боу[57] Пуаро и облепить девчонками-любовницами. К тому времени я настолько срослась с Пуаро, что почувствовала необходимость в нем до конца жизни. Полному изменению его индивидуальности я решительно противилась. Наконец вместе с поддерживавшим меня режиссером-постановщиком Джералдом Дю Морье мы договорились заменить превосходный образ Кэролайн, сестры доктора, очаровательной девушкой. Как уже сказано, исключение Кэролайн из пьесы сильно меня возмутило. Мне нравилось само ее участие в деревенской жизни, дорога была идея показать деревню сквозь бытование доктора и его деспотичной сестры.
Думаю, именно тогда, в Сент-Мери-Мид, как бы мимоходом родилась мисс Марпл, а с нею мисс Хартнел, мисс Уэтерби, Полковник и миссис Бэнтри — все они стучались в скорлупу подсознания, готовые войти в жизнь, а заодно на сцену.
«Убийство в доме викария» я сейчас перечитываю без прежнего удовольствия. В нем, кажется, перебор и с числом персонажей, и с сюжетными ходами. Но главная линия все-таки убедительна. Для меня деревня — подлинность, насколько это возможно, ведь и в наши дни найдутся жители, которые без ума от нее. Больше не существует девчушек из сиротских приютов и вышколенных слуг, стремящихся достичь большего, однако пришедшие им на смену поденщицы столь же искренни и человечны; впрочем, лучше сказать, не менее квалифицированны, чем их предшественники.
Мисс Марпл так скромненько втерлась в мою жизнь, что сразу и не заметишь, Я сочиняла шесть рассказов для серии в одном журнале и подобрала шесть человек, которые по моему замыслу могли бы встречаться в одной деревушке и описывать нераскрытые преступления. Для начала взяла мисс Джейн Марпл — тип пожилых женщин, во многом похожий на близких подружек моей бабушки по Иллингу, которых навидалась в деревнях, где девочкой приходилось жить. Мисс Марпл ни в коем случае не портрет бабушки, она много суетливее и нетерпимее, чем бабушка. Их роднило одно — будучи неунывающим человеком, мисс Марпл тем не менее постоянно ожидала худшего от всех и вся и обычно с ужасающей точностью оказывалась права.
«Меня бы не удивило, если произойдет то-то и то-то», — говаривала бабушка, мрачно кивая, и, хотя ее утверждения были беспочвенны, как раз то-то и то-то действительно происходило. «Дошлый парень, не верю ему», — замечала бабуля, и, когда позднее молодой учтивый клерк попадался на растрате в банке, она нисколько не удивлялась, только кивала. «Да, — говорила она, — я уже знала нескольких таких».
Никто никогда не подольщался к бабушке, чтобы выманить сбережения или с аферой, которую она легкомысленно проглотила бы. Ее проницательный взор зафиксировал клерка, а затем она высказалась: «Знаю я таких. Понятно, что ему надо. Думаю, я просто позову друзей на чай и дам понять, что за молодой человек описывает здесь круги».
Бабулины пророчества заставляли содрогаться. Любимицей моих брата и сестры была ручная белка в доме. Не прошло и года, как бабуля в саду однажды подобрала белку со сломанной лапкой и премудро изрекла: «Попомните мои слова! На днях эта белка заберется в дымоход и найдет там конец». Через пять дней белка туда забралась.
Наконец то самое происшествие с кувшином на полке поверх двери в гостиную. «На твоем месте я бы не держала его здесь, Клэр[58], — сказала бабуля. — Вот скоро хлопнет человек или ветер этой дверью, кувшин и упадет». «Но он там уже десятый месяц, дорогая тетка-бабка». «Вполне возможно», — ответствовала бабушка.
Через несколько дней в грозу дверь грохнула, и следом кувшин. Вероятно, это было ясновидение. Во всяком случае, я наделила мисс Марпл кое-чем из бабушкиных способностей предсказывать. В мисс Марпл не было злости, только недоверчивость в отношении к людям. Предполагая худшее, она часто проявляла благожелательность, каков бы ни был человек.
Мисс Марпл родилась сразу шестидесятипяти-семидесятилетней, что оказалось, как и в случае с Пуаро, очень неудачным, так как ей достался изрядный отрезок моей жизни. Если бы ясновидением обладала я, то в качестве своего первого сыщика припасла бы себе школьника-вундеркинда, и вместе бы взрослели.
В той серии из шести рассказов я снабдила мисс Марпл пятью коллегами. Первый — ее племянник Реймонд Уэст, изведавший полноту жизни, которой современный романист набивает свои книги: кровосмешение, секс, отталкивающие описания спален и оборудования в туалетах. С дорогой, пожилой, престарелой, порхающей тетушкой Джейн он обращается снисходительно-доброжелательно, как с совершенным новичком в этом мире. Во-вторых, мною была сотворена современная молодая художница, стремящаяся к весьма определенным отношениям с Уэстом. За ними следовали местный адвокат мистер Петтигрю, иссохший язвительный старикан; местный доктор, полезный на тот случай, когда нужно как бы осветить возникшее вечером сложное дело подходящей историей; наконец, священник.
Рассказанное самой мисс Марпл запутанное дело получило довольно-таки нелепое название «Отпечаток большого пальца святого Петра», хотя дело шло о треске. Через некоторое время я написала еще шесть рассказов от имени мисс Марпл, и все двенадцать плюс еще один публиковались в Англии под заглавием «Тринадцать сложных дел», а в Америке под заглавием «Клуб убийств по вторникам».
От «Загадки «Эндхауза»», другой моей книги, ужасно мало сохранилось впечатлений, не вспомню, как и писала-то ее. Возможно, сюжет я обдумала загодя, у меня вообще была такая привычка, часто сбивавшая с толку, пока книга не написана или не напечатана. Сюжеты являлись мне между делом: вышагиваешь куда-нибудь по улице или с головой зароешься в шляпную лавку, вдруг осеняет блестящая идея: «А наиболее искусный способ сокрытия преступления — это когда никому не известна цель». Конечно, еще следует выработать все практические детали и персонажам еще предстоит возникнуть в моем сознании, однако свою блестящую идею бегло вписываю в рабочую тетрадь.
Все как по маслу, но что у меня сплошь да рядом — это затерять такую тетрадь. Под рукой обычно с полдюжины рабочих тетрадей, и в них то и дело вписываются поразительные идеи — либо что-то о ядах, лекарствах, либо всякие хитроумные штучки о мошенничествах, вычитанные в газете. При четкой сортировке, соответствующих рубриках и картотеке подобные заметки, разумеется, устранили бы многие хлопоты. Тем не менее бывали приятные моменты, когда, рассеянно перелистывая кипу старых блокнотов, я натыкалась на каракули: «Возможный сюжет: сделай сам — девушка и лжесестра — август» — плюс набросок фабулы. Сейчас невозможно припомнить, о чем все эти заметки, однако они часто подталкивали если не к соответствующему сюжету, то к сочинению чего-то иного.
Мой ум дразнило несколько сюжетов, мне нравилось их обдумывать и проигрывать, зная, что однажды соберусь писать по ним: «Роджер Акройд» долго разыгрывался мысленно, прежде чем был детально запечатлен. Еще одна идея возникла у меня после посещения спектакля с участием Рут Дрейпер, которая могла удивительным образом перевоплощаться из ворчливой особы в молоденькую крестьянку, преклоняющую колени в соборе. Размышления о Дрейпер привели к книге «Лорд Эдуард скончался».
Приступая к сочинению детективных романов, я не была склонна разбирать их или серьезно задумываться, что такое преступление. Детективный роман, в сущности, сводился к погоне, а также в значительной степени был повествованием с моралью, фактически древней нравоучительной сказкой с выслеживанием дьявола и победой добра. В тот период, во время войны 1914 года, приспешник дьявола не годился в герои: плохое воплощал враг, герой — хорошее; столь же просто, сколь первобытно. Мы тогда и близко не подходили к психологии. Подобно всем пишущим или читающим книги, я была против виновных в преступлении и за невинных жертв.
Исключением являлся только популярный персонаж Раффлз, заядлый крикетир и удачливый взломщик со своим кроликообразным партнером Банни. Кажется, Раффлз всегда немного шокировал меня, а теперь, когда оглядываешься на прожитое, еще того больше, хотя он вполне укладывался в традиции минувшего, будучи разновидностью Робина Гуда. Раффлз был приятным исключением. Тогда никто не мог себе представить, что настанет время и книги о преступлениях станут читать из любви к насилию, а мучить само по себе будет доставлять садистское удовольствие. По взглядам тех лет общество должно было бы ужаснуться и ополчиться на подобное явление, но в наше время жестокость почти превратилась в ежедневный хлеб насущный. Как могло так получиться, если все мы полагаем, что подавляющее большинство известных нам людей, и девочек, и мальчиков, и старших, исключительно добры и отзывчивы, хотят чем-нибудь помочь престарелым, готовы и горят желанием приносить пользу. Меньшинство, которое я называю «ненавистниками», довольно невелико, но, подобно всякому меньшинству, дает о себе знать несравненно больше, чем большинство.
У всякого автора книг о преступлениях неизбежно возникает потребность изучить криминологию. Я с исключительным интересом читаю книги авторов, которые лично сталкивались с преступниками и особенно если они пытались благотворно повлиять на преступников или даже найти способы к тому, что в старину назвали бы «исправлением» и для чего, как я догадываюсь, ныне употребляется лишь более пышное название! Бесспорно, существовали личности вроде Ричарда Третьего в шекспировской трактовке, без колебаний утверждавшие: «Зло, ты мой Бог». Думаю, они предпочли зло во многом по мотивам сатаны у Мильтона: он жаждал мощи, жаждал власти, он жаждал сравниться в величии с Богом. В нем не было любви, в нем не было смирения. Сама я сказала бы, исходя из обыкновеннейшего знания жизни, что там, где нет смирения, народ погибает.


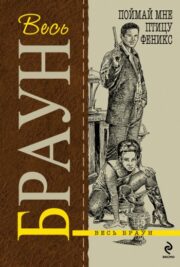

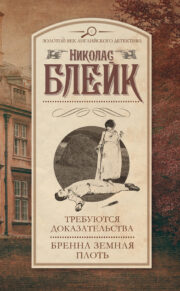

"Как сделать детектив" отзывы
Отзывы читателей о книге "Как сделать детектив", автор: Дороти Л. Сэйерс. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Как сделать детектив" друзьям в соцсетях.