– Я сделаю все, что в моих скромных силах, – улыбнулся он. – Как вам известно, я уже давно не пел перед публикой. Я даже не беру учеников, разве что одного-двух в качестве большого одолжения. Но так как синьор Роскари так неудачно заболел…
– Это был страшный удар, – сказала леди Растонбери.
– Не то чтобы он был настоящим певцом, – заметил Бреон.
Он пространно объяснил ей, почему это так. Очевидно, после ухода со сцены Эдуара Бреона не появилось ни одного выдающегося баритона.
– Мадам Назоркофф поет Тоску, – сообщила ему леди Растонбери. – Вы ее знаете, конечно?
– Никогда с нею не встречался, – ответил Бреон. – Один раз в Нью-Йорке я слышал, как она поет. Великая артистка, у нее есть чувство драмы.
Леди Растонбери почувствовала облегчение: никогда не знаешь, с этими певцами – у них бывает такая странная ревность и антипатия.
Через двадцать минут она вернулась в холл замка и торжествующе замахала рукой.
– Я его заполучила, – крикнула она со смехом. – Дорогой мистер Бреон был так добр, я этого никогда не забуду.
Все столпились вокруг француза, и всеобщая благодарность и восторг были бальзамом для него. Эдуар Бреон, хотя ему уже было под шестьдесят, все еще прекрасно выглядел – высокий и черноволосый, магнетическая личность.
– Послушайте, – сказала леди Растонбери. – Где же мадам?.. О, да вот она!
Пола Назоркофф не приветствовала француза вместе со всеми. Она тихо сидела на высоком дубовом стуле в тени камина. Разумеется, огня в нем не было, так как вечер был теплым, и певица медленно обмахивалась огромным веером из пальмовых листьев. У нее был такой отстраненный и равнодушный вид, что леди Растонбери испугалась, что она обиделась.
– Мистер Бреон. – Она подвела его к певице. – Вы говорили, что еще не знакомы с мадам Назоркофф.
В последний раз широко взмахнув веером, Пола Назоркофф положила его и протянула французу левую руку. Он взял ее и низко склонился над ней, и с губ примадонны сорвался слабый вздох.
– Мадам, – произнес Бреон, – мы никогда не пели вместе. Это всегда меня огорчало! Но судьба была добра ко мне и пришла мне на помощь…
Пола тихо рассмеялась:
– Вы слишком добры, месье Бреон. Когда я была всего лишь бедной, маленькой неизвестной певицей, я сидела у ваших ног. Ваш Риголетто – какое искусство, какое совершенство! Никто не мог сравниться с вами.
– Увы! – ответил Бреон, притворно вздыхая. – Мое время закончилось. Скарпиа, Риголетто, Радамес, Шарплесс, сколько раз я их пел, а теперь – больше нет!
– Да – сегодня.
– Правда, мадам, я забыл. Сегодня…
– Вы пели со многими Тосками, – с вызовом произнесла Назоркофф, – а со мною никогда!
Француз поклонился.
– Это будет для меня честью, – тихо ответил он. – Это великая партия, мадам.
– Для нее нужно быть не только певицей, но и актрисой, – вставила леди Растонбери.
– Это правда, – согласился Бреон. – Помню, в Италии, когда я был еще молодым человеком, я пошел в маленький театр на окраине Милана. Мое место стоило всего несколько лир, но я слышал в тот вечер пение, не уступающее пению в нью-йоркской опере «Метрополитен». Совсем юная девушка пела Тоску, она пела, как ангел. Никогда не забуду ее голос в «Vassi D’Arte», его чистоту, ясность… Но драматического искусства ей не хватало.
Назоркофф кивнула.
– Это приходит позже, – тихо произнесла она.
– Правильно. Эта юная девушка – ее звали Бьянка Капелли, – я проявил интерес к ее карьере. Благодаря мне она получила шанс заключить хорошие контракты, но повела себя глупо, прискорбно глупо.
Он пожал плечами.
– Как именно глупо?
Этот вопрос задала двадцатичетырехлетняя дочь леди Растонбери, Бланш Эмери. Стройная девушка с широко расставленными голубыми глазами.
Француз тотчас же вежливо повернулся к ней:
– Увы, мадемуазель, она связалась с каким-то парнем низкого происхождения, бандитом, членом Каморры[18]. У него были неприятности с полицией, его приговорили к смертной казни; она пришла ко мне и умоляла сделать что-нибудь, спасти ее возлюбленного…
Бланш Эмери во все глаза смотрела на него.
– И вы спасли? – затаив дыхание, спросила она.
– Я, мадемуазель. Что я мог сделать? Иностранец в чужой стране…
– Возможно, вы пользовались влиянием? – предположила Назоркофф своим низким звучным голосом.
– Если бы оно у меня было, сомневаюсь, что я воспользовался бы им. Этот человек не стоил того. Я сделал для девушки что мог.
Он слегка улыбнулся, и его улыбка внезапно поразила молодую англичанку: в ней было нечто неприятное. Она почувствовала в тот момент, что его слова не отражают его мысли.
– Вы сделали все, что смогли, – сказала Назоркофф. – Вы были добры, и она была вам благодарна, да?
Француз пожал плечами.
– Того человека казнили, – ответил он, – а девушка ушла в монастырь. Eh, voila! Мир потерял певицу.
Назоркофф тихо рассмеялась.
– Мы, русские, более непостоянны, – весело произнесла она.
Бланш Эмери случайно посмотрела на Коуэна, когда певица говорила это, и увидела быстро промелькнувшее по его лицу выражение изумления; его губы слегка приоткрылись, а потом плотно сжались, повинуясь предостерегающему взгляду Полы.
В дверях появился дворецкий.
– Обед, – сказала леди Растонбери и встала. – Бедняжки, мне вас так жаль, это, должно быть, ужасно – всегда морить себя голодом перед выступлением. Но после будет очень хороший ужин.
– Мы будем с нетерпением ждать его, – сказала Пола Назоркофф. И тихо рассмеялась: – После!
В театре только что закончился первый акт «Тоски». Зрители зашевелились, начали переговариваться. Члены королевской семьи, очаровательные и благожелательные, сидели на трех бархатных креслах в первом ряду. Все перешептывались и выражали мнение, что в первом акте Назоркофф не оправдала их больших ожиданий. Большинство зрителей не понимали, что этим певица продемонстрировала свое искусство: в первом акте она щадила голос и себя. Пола изображала Тоску как легкомысленную, фривольную особу, играющую с любовью, ревнивую, волнующую кокетку. Бреон, несмотря на то что его голос уже не был таким блистательным, как в молодости, все еще великолепно изображал циничного Скарпиа. Не было и намека на старого развратника в его трактовке этой роли. Он сделал из Скарпиа красивого, почти доброго персонажа, лишь слабо намекая на злобу, скрывающуюся под внешним обликом. В последнем выходе на сцену, когда Скарпиа стоит, в задумчивости погруженный в свои планы завладеть Тоской, Бреон продемонстрировал прекрасную актерскую игру. Теперь поднялся занавес, и начался второй акт, сцена в доме у Скарпиа.
На этот раз, когда вошла Тоска, сразу же стало видно искусство Назоркофф. Это была женщина, охваченная смертельным страхом, она играла свою роль с уверенностью превосходной актрисы. Как легко она приветствовала Скарпиа, как была невозмутима, как отвечала ему с улыбкой! В этой сцене Пола Назоркофф играла глазами, она держалась с убийственным спокойствием, с невозмутимой улыбкой на лице. Только ее глаза, бросающие быстрые взгляды на Скарпиа, выдавали ее истинные чувства. События развиваются, мучительная сцена, Тоска теряет самообладание и, позабыв обо всем, падает к ногам Скарпиа, тщетно умоляя о пощаде. Старый лорд Леконмер, знаток музыки, заерзал от восторга, а иностранный посол, сидящий рядом с ним, прошептал:
– Она превзошла себя сегодня, эта Назоркофф. Ни одна другая женщина на сцене не может сыграть так, как она.
Леконмер кивнул.
И вот Скарпиа назвал свою цену, и Тоска в ужасе бежит от него к окну. Издалека доносится бой барабанов, и женщина без сил падает на диван. Скарпиа стоит над ней и рассказывает, как его люди возводят виселицу, – потом тишина и снова далекий бой барабанов. Назоркофф распростерлась на диване, ее голова свисала, почти касаясь пола, волосы закрывали лицо. Затем, составляя изысканный контраст со страстью и напряжением последних двадцати минут, зазвучал ее голос, высокий и чистый, – голос, как она говорила Коуэну, мальчика из церковного хора. Или ангела.
– Vissi d’arte, vissi d’amore, non feci mai male ad anima viva! Con man furtive quante miserie conobbi, aiutai[19].
Это был голос удивленного, сбитого с толку ребенка. Затем она снова стоит на коленях и молит, до того момента, когда входит Сполетта. Тоска, обессиленная, сдается, и Скарпиа произносит свои роковые, обоюдоострые слова. Сполетта снова выходит. Затем наступает драматичный момент, когда Тоска, подняв дрожащей рукой бокал вина, замечает на столе кинжал и прячет его за спиной.
Бреон встал, красивый, мрачный, пылающий страстью. «Tosca, finalmente mia!»[20] Тоска наносит быстрые, как молния, удары кинжалом и мстительно шипит:
– Questo e il bacio di Tosca![21]
Никогда еще Назоркофф так не играла эту сцену мести Тоски. Последние сказанные шепотом слова «muori dannato»[22], а затем странный, спокойный голос заполнил театр:
– Or gli perdono![23]
Заиграла тихая мелодия смерти, когда Тоска приступила к своей церемонии, расставила свечи по обе стороны от его головы, потом положила распятие ему на грудь, в последний раз остановилась в дверях и оглянулась. Раздался далекий рокот барабанов, и занавес упал.
На этот раз зрители разразились бурными аплодисментами, но длилось это недолго. Какой-то человек поспешно вышел из-за кулис и что-то сказал лорду Растонбери. Тот встал и через пару минут подозвал к себе сэра Дональда Кэлторпа, известного врача. Почти сразу все в зале узнали правду. Что-то случилось, несчастный случай, кто-то серьезно ранен. Один из певцов вышел на авансцену и объяснил, что, к сожалению, с месье Бреоном произошел несчастный случай – и оперу невозможно продолжать. Снова пронесся слух, что Бреон заколот кинжалом. Назоркофф потеряла голову, она так полно вжилась в роль, что действительно заколола своего партнера по сцене. Лорд Леконмер, беседующий со своим другом-послом, почувствовал прикосновение к плечу, обернулся и встретился взглядом с Бланш Эмери.





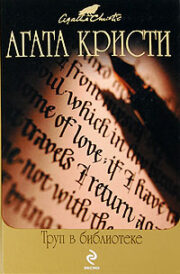
Увлекательное чтение!
Интригующие загадки!
Отличное произведение Агаты Кристи!
Неожиданные повороты сюжета!
Отличное развитие истории!
Отличное произведение для любителей детективов!
Захватывающая история!
Захватывающие персонажи!
Отличное погружение в мир детектива!