— Честное слово, это прекрасно сказано, — заметил Людовик с просиявшим лицом. — Посмотрим, что сможет на это ответить отец Лашез. Тяжело слушать угрозы о вечных муках за то только, что не желаешь гибели своего королевства. Вечные муки! Я видел лицо человека, проведшего в Бастилии только пятнадцать лет. Но оно было похоже на страшную летопись; каждый час жизни этого преступника был отмечен рубцом или морщиной. А вечность?
Он содрогнулся при одной мысли об этом, и выражение ужаса мелькнуло в его глазах. Высшие мотивы мало действовали на душу короля, как это давно было подмечено его окружающими, но ужасы будущей жизни пугали Людовика.
— Зачем думать об этих вещах, ваше величество? — спросила г-жа де Ментенон своим звучным успокаивающим голосом. — Чего бояться вам, истинному сыну церкви?
— Так вы думаете, что я спасусь?
— Конечно, ваше величество.
— Но ведь я грешил, и много грешил. Вы сами твердили мне об этом.
— Все уже в прошлом, ваше величество. Кто не был грешен? Вы отвратились от искушения и, без сомнения, заслужили прощение.
— Как бы мне хотелось, чтоб королева была еще жива! Она увидела бы мое исправление.
— И я сама желала бы этого, ваше величество.
— Она узнала бы, что этой переменой я обязан вам О, Франсуаза, вы мой ангел-хранитель во плоти. Чем могу я отблагодарить вас за все, сделанное для меня?
Он нагнулся, взяв ее за руку. Но при этом прикосновении в глазах короля внезапно вспыхнул огонь страсти, и он протянул другую руку, намереваясь обнять женщину. Г-жа де Ментенон поспешно встала с кресла.
— Ваше величество, — промолвила она, подымая палец. Лицо ее приняло суровое выражение.
— Вы правы, вы правы, Франсуаза. Сядьте, пожалуйста, я сумею овладеть собой. Все та же вышивка.
Он поднял один край шелковистого свертка. Де Ментенон села снова на место, предварительно бросив быстрый проницательный взгляд на своего собеседника, и, взяв другой конец вышивки, принялась за работу.
— Да, ваше величество. Это сцена из охоты в ваших лесах Фонтенебло. Вот олень, за которым гонятся собаки, и нарядная кавалькада кавалеров и дам. Вы выезжали сегодня, ваше величество?
— Нет. Отчего у вас такое ледяное сердце, Франсуаза?
— Я желала бы, чтобы оно было таким, ваше величество. Может быть, вы были на соколиной охоте?
— Нет. Наверное, любовь мужчины никогда не коснулась этого сердца. А между тем вы были замужем.
— Скорее сиделкой, но не женой, ваше величество. Посмотрите, что за дама в парке? Наверное, м-ль! Я не знала о ее Возвращении из Шуази.
Но король не хотел переменить темы разговора.
— Так вы не любили этого Скаррона? — продолжал он. — Я слышал, что он был стар и хромал, как некоторые из его стихов.
— Не отзывайтесь так о нем, ваше величество. Я была благодарна этому человеку; уважала его и была ему предана.
— Но не любили?
— К чему ваши попытки проникнуть в тайны женского сердца?
— Вы не любили его, Франсуаза?
— Во всяком случае, по отношению к нему я честно исполняла свой долг.
— Так это сердце монахини еще не тронуто любовью?
— Не спрашивайте меня, ваше величество.
— Оно никогда…
— Пощадите меня, ваше величество, молю вас!
— Но я должен знать, так как от вашего ответа зависит мой душевный покой.
— Ваши слова огорчают меня до глубины души.
— Неужели, Франсуаза, вы не чувствуете в вашем сердце слабого отблеска любви, горящей в моем?
Монарх встал и с мольбой протянул руки к своей собеседнице. Та отступила на несколько шагов и склонила голову.
— Будьте уверены только в том, ваше величество, — произнесла она, — что люби я вас, как никогда еще ни одна женщина не любила мужчину, то и тогда я скорее бы бросилась из этого окна вниз на мраморную террасу, чем намекнула бы вам о том хотя бы единым словом или жестом.
— Но почему, Франсуаза?!
— Потому, ваше величество, что моя высочайшая цель земной жизни заключается в том, так, по крайней мере, мне кажется, что я призвана обратить ваш дух к более возвышенным делам, и никто так хорошо не знает величия и благородства вашей души, как я.
— Разве моя любовь так низка?
— Вы растеряли слишком много времени и мыслей на любовь к женщинам. А теперь, государь, годы проходят и близится день, когда даже вам придется дать отчет в своих поступках и в сокровеннейших мыслях. Я хочу, чтобы вы употребили остаток жизни на устроение церкви, показали благородный пример вашим подданным и исправили зло, причиненное, может быть, в прошлом.
Король повалился в кресло.
— Опять то же самое, — простонал он. — Да вы еще хуже отца Лашеза и Боссюэта.
— Ах, нет! — весело перебила она с неизменявшим ей никогда тактом. — Я надоела вам, сир, между тем как вы удостоили меня своим посещением. Это действительно черствая неблагодарность с моей стороны, и я получила бы справедливое наказание, если бы завтра вы не разделили со мной одиночества, омрачив таким образом весь мой последующий день Но скажите, государь, как подвигаются постройки в Марли? Я горю от нетерпения узнать, будет ли действовать большой фонтан.
— Да, он прекрасно работает, но что касается построек, то Мансар слишком отодвинул правый флигель. Я сделал из этого человека недурного архитектора, но все же еще приходится учить его многому. Сегодня я указал ему на его ошибку, и он обещал мне все исправить.
— А во что обойдется эта поправка, ваше величество?
— В несколько миллионов ливров, но зато вид с южной стороны будет гораздо лучше. Я занял под здание еще милю земли вправо — там ютилась масса бедноты, хижины которых были далеки от красоты.
— А почему вы не совершали сегодня прогулки верхом, ваше величество?
— Это не доставляет мне ни малейшего удовольствия. Было время, когда кровь во мне закипала при звуке рога или топота копыт, но теперь все это только утомляет меня.
— А охота с соколами?
— Меня и это больше не интересует.
— Но вам нужны же какие-нибудь развлечения, государь?
— Что может быть скучнее удовольствия, переставшего развлекать? Не знаю, как это случилось. Когда я был мальчиком, меня и мать постоянно гоняли с места на место. Тогда против нас бунтовала Фронда, а Париж кипел возмущением — и все же даже жизнь в опасностях казалась мне светлой, новой, полной интереса. Теперь же, когда везде безоблачно, когда мой голос — первый во Франции, а голос Франции — первый в Европе, все кажется мне утомительным и скучным. Что пользы в удовольствии, если оно надоедает мне, лишь только я его испробую?
— Истинное наслаждение, государь, заключается только в ясности духа, в спокойствии совести. И разве не естественно, что, по мере надвигающейся старости, наши мысли окрашиваются в более серьезный и глубокий цвет? Будь иначе, мы вправе были бы упрекать себя в том, что не извлекли никакой выгоды из уроков, преподанных жизнью.
— Может быть; но во всяком случае и скучно осознавать, что ничто не интересует тебя больше. Но чей это стук?
— Моей компаньонки. Что нужно, м-ль?
— Пришел месье Корнель читать королю, — сообщила молодая девушка, открывая дверь.
— Ах, да, ваше величество. Я знаю, как бывает порой надоедлива глупая женская болтовня, а потому пригласила кое-кого поумнее — развлечь вас. Должен был прийти месье Расин, но мне передали, что он упал с лошади и вместо себя прислал своего друга. Позволите ему войти?
— Как вам угодно, мадам, как угодно, — безучастно промолвил король.
По знаку компаньонки в комнате появился маленький человек болезненного вида с хитрым, живым лицом и длинными седыми волосами, падавшими на плечи. Он, сделав три низких поклона, робко сел на самый край табурета, с которого хозяйка сняла свою рабочую корзину. Она улыбнулась и кивнула головой поэту, ободряя его, а король с покорным видом откинулся на спинку кресла.
— Прикажете комедию, или трагедию, или комическую пастораль? — робко спросил Корнель.
— Только не комическую пастораль, — решительно сказал король. — Такие вещи можно играть, но не читать: они приятнее для глаз, чем для слуха.
Поэт поклонился в знак согласия.
— И не трагедию, сударь, — добавила г-жа де Ментенон, подымая глаза от работы. — У короля и так достаточно серьезных дел, и я рассчитываю на ваш талант, чтобы его поразвлечь.
— Пусть это будет комедия, — решил Людовик. — С тех пор как скончался бедняга Мольер, я ни разу не смеялся от души.
— Ах, у вашего величества действительно тонкий вкус! — вскрикнул придворный поэт. — Если бы вы соблаговолили заняться поэзией, что стало бы тогда со всеми нами?!
Король улыбнулся. Никакая лесть не казалась ему достаточно грубой.
— Как вы обучили наших генералов войне, художников искусству, так настроили бы и лиры ваших бедных певцов на более высокий лад. Но Марс едва ли согласился бы почивать на более смиренных лаврах Аполлона.
— Да, мне иногда казалось, что у меня действительно налицо способности этого рода, — снисходительно ответил король, — но среди государственных забот и тягостей у меня, как вы сами заметили, остается слишком мало времени для занятий изящным искусством.
— Но вы поощряете других в том, что могли бы так прекрасно исполнять сами, ваше величество. Как солнце рождает цветы, так вы вызвали появление поэтов. И сколько их! Мольер, Буало, Расин, один выше другого. А кроме них, второстепенные — Скаррон столь непристойный и вместе с тем такой остроумный… О, пресвятая дева! Что сказал я?!
Г-жа Ментенон положила на колени вышивание и с выражением величайшего негодования глядела на поэта, завертевшегося на стуле под строгим взглядом ее полных упрека холодных серых глаз.
— Я полагаю, господин Корнель, вам лучше начать чтение, — сухо промолвил король.
— Несомненно, ваше величество. Прикажете прочесть мою пьесу о Дарий?
— А кто такой Дарий? — спросил король, образование которого, благодаря хитрой политике кардинала Мазарини, было так заброшено, что он являлся невеждой во всем, кроме того, что входило в круг его непосредственных наблюдений.

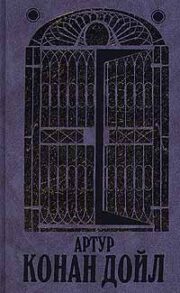

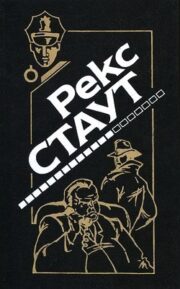

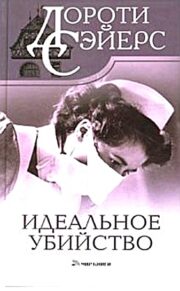
Невероятно захватывающая история о дружбе и верности.
Очаровательная история о любви и предательстве.
Захватывающие приключения и прекрасные персонажи.
Захватывающая атмосфера и запутанные планы.
Незабываемое чтение для любителей приключений.