– Ну, новобранцы неопасны! – воскликнул он, точно отбрасывая их руками. – Я дам там большое сражение и выиграю его с потерей десяти тысяч человек. На третий день я буду в Лондоне. Там я немедленно захвачу государственных чиновников, банкиров, купцов, издателей газет. Я потребую вознаграждение в размере ста миллионов фунтов стерлингов! Я буду покровительствовать бедным на счет богатых и таким образом буду иметь их на своей стороне. Я дам автономию Шотландии и Ирландии; то даст им преимущество перед Англией. Таким образом я везде вызову раздоры. И затем уже я потребую отдать мне их флот и укрепить за Францией английские колонии в вознаграждение за то, что я покину их остров! Я достигну всемирного владычества для Франции и укреплю его за нею навеки! Из этих слов я вполне убедился в том, что в Наполеоне была поистине удивительная черта характера, о которой мне уже говорили и раньше: эта черта характера давала ему возможность совмещать ширину замыслов с разработкой мельчайших деталей, которая ясно указывала, что эти замыслы не выходили за пределы возможного. В его мозгу мысль о походе на Восток, точно легкий, неясный сон сменялся думой о судах, портах, запасах, войсках, которые будут необходимы, чтобы места обратилась в действительность. Он сразу улавливал основную часть вопроса и разрабатывал его с той решимостью, с какою он шел на столицу врагов. Обладая душой идеалиста-поэта, и в то же время был человеком дела, и это обстоятельство заставляло признать его опаснейшим из людей в целом мире. Я думаю, что в этом монологе о своих намерениях и планах, Наполеон имел затаенную цель ( он никогда ничего не делал бесцельно ), и в данном случае он рассчитывал на эффект, который мои слова о нем могли бы произвести на эмигрантов.
Не существовало, казалось, ничего, чтобы было не по силам его разуму, и всякое маленькое дело его необыкновенный разум умел возвысить так, чтобы оно было достойно его величия. В один миг он переходил от размышления о зимних квартирах для 200 тысяч солдат к спорам с де Коленкуром об уменьшении домашних расходов и о возможности убавить число экипажей. – Я стремлюсь быть как можно экономнее в домашней обстановке, но зато хочу показаться во всем блеске пышности и величия заграницей, – сказал он. – Я помню, когда я был лейтенантом, я находил возможность существовать на 1200 франков в год, и для меня не составит большого труда перейти и теперь к подобному же существованию! Необходимо приостановить эту расточительность во дворце! Например, из отчета Коленкура я вижу, что в один день было выпито 155 чашек кофе, что при цене сахара в 4 франка и кофе 5 франков за фунт, дает 20 су за чашку. Можно было бы убавить эту порцию. Счета по конюшням тоже слишком велики. При настоящей цене сена, семьсот франков в неделю, должно вполне хватать на 200 лошадей. Я не хочу чрезмерных расходов на Тюльери!
Таким образом в несколько минут он переходит от вопроса о миллиардах к вопросу о копейках, и от вопросов государственного устройства к лошадиному стойлу. Время от времени он вопрошающе взглядывал на меня, точно спрашивая мое мнение обо всем этом, и меня поражало, почему ему нужно было мое одобрение. Но вспомнив, скольких представителей старого дворянства мог соблазнить пример моего поступления к нему на службу, я понял, что он смотрел на все гораздо глубже, чем я.
– Хорошо, monsieur де Лаваль, – вы несколько познакомились с моей системой. Достаточно ли вы подготовлены, чтобы поступить ко мне на службу? – Вполне уверен в этом, Ваше Величество, – сказал я.
– Я умею быть очень строгим хозяином, когда я этого хочу, – сказал он, улыбаясь. – Вы присутствовали при нашей ссоре с Брюиксом. Я не мог иначе поступить, потому что для нас прежде всего необходимо исполнение долга, требующего дисциплины в высших и низших классах. Но мой гнев никогда не может заставить меня потерять самообладание, потому что он не доходит досюда, – при этом он рукою указал на шею, – я никогда не дохожу до исступления. Доктор Корвизар может сказать вам, что моя кровь очень медленно обращается в жилах!
– И что вы слишком быстро едите, Ваше Величество, – сказал широколицый добродушный человек, шептавшийся до того момента с Бертье. – Ах вы, негодник этакий, еще клевещет на меня! Доктор не может никак простить мне однажды высказанного мною мнения, что я предпочитаю умереть от болезни, чем от лекарств! Если я слишком мало трачу времени на еду, то это уже не моя вина, а государства, которое уделяет мне всего несколько минут на еду. Ах! да, я вспомнил, что верно сильно запоздал обедом, Констан?
– Уже четыре часа прошло сверх положенного для обеда часа, Ваше Величество.
– Давай сейчас!
– Слушаю, Ваше Величество! Осмелюсь доложить, в дверях ожидает monsieur Изабей со своими куклами!
– Ну тогда погоди, – я сначала взгляну на них. Позвать его сюда! Вошел человек, по-видимому, прибывший из дальнего пути. На его руках висела большая, сплетенная из ивняка корзина.
– Я посылал за вами два дня тому назад, m-r Изабей!
– Курьер был у меня третьего дня, Ваше Величество! Но я только что приехал из Парижа.
– С вами модели?
– Да, Ваше Величество.
– Разложите их на столе.
Я ничего не понимал, видя, что Изабей раскрыл свою корзинку, наполненную маленькими куклами, не больше фута величиной, разодетыми в самые яркие шелковые и бархатные костюмы с отделкой из горностая и золотых шнуров. И пока он размешал их на столе, я догадался, что император с его необыкновенной любовью к тщательной разработке мелочей, с его привычкой контролировать все при дворе, пожелал видеть и эти модели, чтобы судить об эффективности ярких костюмов, которые были заказаны для его двора на случай каких-либо церемоний, парадов и т.п.
– Что это такое? – спросил он, протягивая маленькую куклу в красном с золотом охотничьем костюме, с током из белых перьев.
– Это охотничий костюм императрицы, Ваше Величество!
– Талия слишком низка, – сказал Наполеон, имевший строго-определенные взгляды на дамские платья. – Эти проклятые моды, кажется, единственная вещь, которой я не могу управлять. А это кто?
Он указал на фигурку в зеленом сюртуке, отличающую особенно торжественным видом.
– Это заведующий императорской охотой, Ваше Величество! – Значит это вы, Бертье! Как вам нравится ваш новый костюм? А кто вот этот в красном?
– Это главный канцлер!
– А в лиловом?
– Это камергер двора!
Император занялся все этим, точно дитя новой игрушкой. Он формировал из кукол группы, чтобы иметь понятие о том, как они будут все вместе; затем он сложил их обратно в корзинку.
– Очень хорошо, – сказал он, – вы и Давид превзошли самих себя в этой работе. Потрудитесь доставить эти модели придворным поставщикам и получить там вознаграждение за издержки. Но вы скажите, Ленорман, что если она осмелится подать такой же счет, какой она недавно прислала императрице, я заставлю ее познакомиться с внутренним расположением Венсеннской тюрьмы. Я думаю, что выбросить 25 тысяч франков на одно платье, хотя бы оно было для madtmoiselle Евгении де Шаузель, покажется вам непростительной глупостью, m-r де Лаваль? Правда?
Он знал имя моей невесты! Неужели могло что-нибудь укрыться от глаз и ушей этого удивительного человека? Какое ему дело было до моей любви, ему, погруженному в решение судеб всего мир? И когда я смотрел на него, частью с удивлением, частью со страхом, та же детская улыбка озарила его бледное лицо. На мгновение жирная рука императора легла на мое плечо; его голубые глаза светились теперь удовольствием. В зависимости от душевных настроений Наполеона, его глаза принимали разные оттенки; они темнели в минуты задумчивости, делались стального цвета в минуту гнева и раздражения. – Вы очень удивились тому, что мне известны подробности вашего приключения в Ашфордском кабачке? Теперь вы еще более изумлены, слыша известное вам имя из моих уст! Вы могли бы быть очень плохого мнения о моих агентах в Англии, если бы они не сумели мне доставить таких важных подробностей, как эти!
– Я не понимаю, почему такие мелочи были донесены вам или, вернее, почему вы их не забыли тотчас же, Ваше Величество?
– Вы очень скромны m-r де Лаваль, и я не хотел бы, чтобы вы утратили это редкое качество, ознакомившись с придворной жизнью. Итак, вы полагаете, что ваши личные дела не могут иметь существенной важности для меня?
– Не знаю, почему они могут быть важны, Ваше Величество? – Как зовут вашего дядю?
– Он кардинал Лаваль де Монморанси!
– Совершенно верно! Где он?
– Он в Германии.
– Ну, да, в Германии, а не в Notre Dame, куда я помести бы его! Кто ваш кузен?
– Герцог де Рогань.
– Где он?
– В Лондоне.
– Да, в Лондоне, а не в Тюльери, где он мог бы достичь всего, чего бы только хотел. Я удивляюсь, если после моего падения у меня найдутся столь же верные подданные, как у Бурбонов. Вряд ли люди, которых я обрек на изгнание, будут отказываться от всех предложений, ожидая моего возвращения! Пожалуйте сюда, Бертье, – он взял своего любимца за ухо с ласковым жестом, столь характерным для Наполеона.
– Могу я рассчитывать на вас, негодник вы этакий!
– Я не понимаю вас, Ваше Величество!
Наш разговор велся все время так тихо, что его не могли слышать присутствующие, но теперь они все ждали ответа Бертье.
– Если я буду низложен и изгнан, пойдете ли вы за мною в изгнание? – Нет, Ваше Величество!
– Черт возьми! Однако вы откровенны!
– Я не буду в состоянии идти в изгнание, Ваше Величество! – А почему?
– Потому что меня тогда уже не будет в живых!
Наполеон расхохотался.
– И есть еще люди, говорящие, что наш Бертье не отличается особой сообразительностью, – сказал он – я вполне уверен в вас, Бертье, потому что хотя и люблю вас по своим собственным соображениям, но не думаю, чтобы вы менее других заслуживали моего расположения. Нельзя сказать того же о вас, monwieur Талейран! Вы отлично перейдете на сторону нового победителя, как вы некогда изменили вашему старому. Вы, мне кажется, имеете гениальное умение пристраиваться!

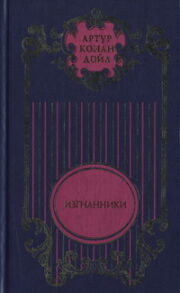

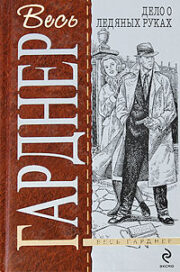
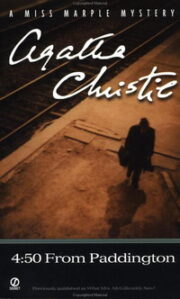
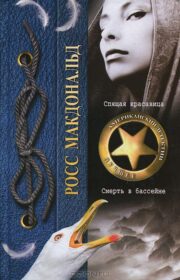
Великолепное доказательство таланта Артура Конан Дойла.
Великолепное проникновение в мир Дяди Бернака.
Книга Артура Конана Дойла «Изгнанники; Дядя Бернак: Романы; Война в Южной Африке: Документально-публицистическое исследование» представляет собой невероятно мощное исследование истории Южной Африки. Автор предоставляет подробное описание военных действий и их последствий для местного населения. Он предоставляет нам представление о жизни людей, которые пострадали от войны, и делает это с пониманием и сочувствием. Эта книга помогает нам понять, как война может изменить жизнь людей и как важно принимать меры для предотвращения подобных конфликтов. Я рекомендую эту книгу всем, кто интересуется историей и политикой Южной Африки.
Захватывающее путешествие в мир документально-публицистического исследования.
Отличное исследование Артура Конан Дойла о Войне в Южной Африке.
Незабываемое чтение о прошлом Южной Африки.