Милисент Спрот подхватила:
– Я сегодня ходила с маленькой на пляж. Она хотела побегать ножками по воде, но я все-таки решила, что слишком холодно. Мы стали с ней строить песочный замок, и представляете, прибежала какая-то собака, утащила мое вязание и распустила чуть не полработы. Такая досада. Я с большим трудом подобрала петли. Я никудышная вязальщица.
– А вы, миссис Бленкенсоп, очень подвинулись со своим подшлемником, – вдруг сказала миссис О'Рурк, обернувшись к Таппенс. – Вы, оказывается, быстро вяжете. А мисс Минтон вроде говорила, что вы будто бы только начинающая.
Таппенс покраснела – ну и зоркий же глаз у этой миссис О'Рурк! – и с досадой пояснила:
– Я на самом деле давно вяжу. Я мисс Минтон так и сказала. Но она обожает учить других.
Все присутствующие рассмеялись в знак согласия. А еще через несколько минут явились остальные и прозвучал гонг к ужину.
За ужином зашел разговор на самую животрепещущую тему дня: о шпионах. Были в который уже раз пересказаны известные страшные истории – про монахиню, протянувшую из-под рясы мускулистую мужскую руку; про пастора-парашютиста, который неудачно приземлился и выругался слишком уж крепко для святого отца; про кухарку-австриячку, у которой в комнате оказался спрятанный в печную трубу радиопередатчик, и тому подобные происшествия, случившиеся или едва не случившиеся с родной теткой или двоюродной кузиной кого-то из присутствующих. Отсюда естественно перешли на пятую колонну. Ругали английских фашистов, коммунистов, пацифистов и непротивленцев. Словом, обычная застольная беседа, какие можно было услышать всякий день. Однако Таппенс внимательно следила за лицами и тоном говорящих – не мелькнет ли какой-то особенный взгляд, не проскользнет ли разоблачительное слово. Но ничего примечательного она не заметила. Одна только Шейла Перенья не принимала участия в разговоре, но, может быть, у нее такой замкнутый характер? Она сидела за столом с мрачным, воинственным выражением на смуглом лице и молчала.
Карла фон Дейнима сегодня за ужином не было, так что языки постепенно развязались. И под конец Шейла все-таки произнесла одну реплику. Это было после того, как миссис Спрот сказала своим пронзительным писклявым голосом:
– По-моему, немцы в ту войну допустили большую ошибку, что расстреляли сестру Кэвелл[33]. Это всех против них настроило.
И тогда Шейла, вскинув черноволосую голову, спросила:
– Почему бы им было ее не расстрелять? Она ведь была шпионка, разве нет?
– Нет, нет! Шпионкой она не была.
– Ну все равно, помогала англичанам бежать с вражеской территории, какая разница. И поэтому заслуживала расстрела.
– Но расстрелять женщину!.. И медсестру!..
Шейла встала из-за стола.
– А по-моему, немцы поступили правильно, – проговорила она и вышла через открытую дверь в сад.
Десерт из недозрелых бананов и вялых апельсинов уже давно дожидался на столе. Кончив ужинать, все поднялись и вместе перешли в «салон» пить кофе. Только Томми, не привлекая ничьего внимания, выскользнул на веранду. Шейла Перенья стояла, облокотившись о перила, и смотрела на море. Томми подошел и встал рядом.
По частому, неровному дыханию девушки было ясно, что она чем-то сильно взволнована. Он протянул ей сигареты. Она взяла одну.
– Чудесная ночь, – заговорил Томми.
Она тихо, с чувством ответила:
– Была бы чудесная, если бы…
Томми вопросительно взглянул на нее. Он только теперь до конца оценил своеобразную привлекательность этого молодого существа, полного бурных чувств и жизни, бьющей через край. Из-за такой, подумал он, недолго голову потерять.
– Если бы не война, хотели вы сказать? – спросил Томми.
– Вовсе нет. Войну я терпеть не могу.
– Как и все мы.
– Иначе, чем я. Я не выношу все эти разглагольствования о войне, и самодовольство, и этот отвратительный, подлый патриотизм.
– Патриотизм? – не понял Томми.
– Да. Я ненавижу патриотизм, вы слышите? Всю эту демагогию: «родина», «за родину», «во имя родины». «Предатель родины – умер за родину – служил родине». Почему это страна, в которой живешь, должна иметь такое значение?
Томми ответил:
– Нипочему. Имеет, и все.
– А для меня нет! Вам хорошо – разъезжаете по всей Британской империи, покупаете и продаете товары, а потом возвращаетесь, загорелый и набитый всякими пошлостями, разговорами про туземцев, про бремя белого человека и прочее.
Томми мягко заметил:
– Я не такой уж, надеюсь, беспросветный болван, моя милая.
– Конечно, я слегка преувеличиваю. Но вы ведь меня поняли? Вы верите в Британскую империю и в эту дурацкую идею смерти за отечество.
– Мое отечество, – с горечью сказал Томми, – кажется, не особенно жаждет, чтобы я за него умирал.
– Возможно. Но вы этого хотите, хотите умереть за отечество! А это глупо! Нет ничего, за что стоит умереть. Это только так говорится, болтовня одна, пена на губах – высокопарный идиотизм. Для меня мое отечество не значит ровным счетом ничего.
– В один прекрасный день, поверьте, вы еще убедитесь, сами того не подозревая, что и для вас оно очень даже много значит.
– Нет. Никогда. Я столько приняла горя… Я такое пережила… – Она было замолчала, но затем вдруг повернулась к Томми и взволнованно спросила: – Вы знаете, кто был мой отец?
– Нет.
– Его звали Патрик Магуайр. Он… он был сообщником Кейсмента[34] во время прошлой войны. И был расстрелян как предатель. Он погиб ни за что! За идею! Они друг друга распаляли разговорами, он и все те ирландцы. Почему бы ему не сидеть тихо дома и не заниматься своими делами. Он умер мучеником для одних и предателем для других. А по-моему, это было просто идиотство!
В ее голосе звучал вызов, долго сдерживаемое негодование.
Томми сказал:
– Так вот какая тень омрачала вашу жизнь с самых ранних лет?
– Еще как омрачала! Мать сменила фамилию. Несколько лет мы жили в Испании, и она всем говорит, что мой отец был наполовину испанец. Мы всюду должны лгать, где бы ни очутились. Мы изъездили всю Европу. Наконец вот заехали сюда и открыли пансион. По-моему, ничего отвратительнее нельзя придумать.
Томми спросил:
– А ваша мать, как она ко всему этому относится?
– К тому, как умер мой отец? – Шейла немного помолчала, нахмурив брови. Потом неуверенно ответила: – На самом деле я даже не знаю… Она никогда со мной об этом не говорила. У моей матери не так-то просто разобрать, что она чувствует или думает.
Томми кивнул.
Шейла вдруг сказала:
– Я… я не знаю, почему я вам все это наговорила. Разнервничалась, наверно. С чего вообще это началось?
– Со спора про Эдит Кэвелл.
– А, ну да. Патриотизм. Я сказала, что ненавижу патриотизм.
– А вы не помните, что сказала сама сестра Кэвелл?
– Она что-то сказала?
– Да. Перед смертью. Вы не знаете?
И Томми повторил предсмертные слова Эдит Кэвелл:
– «Патриотизм – это еще не все… Мне надо, чтобы у меня в сердце не было ненависти».
Шейла охнула. Прикусила губу. И, резко повернувшись, убежала в темноту сада.
2
– Так что, как видишь, Таппенс, все сходится одно к одному.
Таппенс задумалась, кивнула. Они разговаривали с глазу на глаз у воды. Таппенс стояла, облокотясь о стену волнолома, Томми сидел на парапете, возвышаясь над нею, и ему был бы виден оттуда всякий, кто вздумал бы двинуться от набережной в их сторону. Впрочем, он не особенно опасался появления соглядатаев, так как загодя выяснил у обитателей пансиона, кто куда собирается после завтрака. К тому же их встреча с Таппенс имела вид вполне случайный – эдакая приятная неожиданность для дамы и некоторая неловкость для него самого.
– Значит, миссис Перенья? – уточнила Таппенс.
– Да. Не Икс, а Игрек. Она отвечает всем требованиям.
Таппенс опять озабоченно кивнула.
– Да. Ирландка, по определению наблюдательной миссис О'Рурк, но скрывает это. Много ездила по Европе. Сменила фамилию на Перенья, приехала сюда и открыла пансион. Отличная маскировка – жизнь в окружении безобидных пансионеров. Муж ее был казнен за измену, так что у нее есть свои основания возглавить здесь деятельность пятой колонны. Да, все сходится. А как по-твоему, дочь тоже замешана?
Томми еще раз все прикинул и твердо ответил:
– Определенно – нет. Иначе бы она ни за что не стала мне о себе рассказывать. Я, честно сказать, чувствую себя подлецом.
Таппенс это было понятно. Она кивнула:
– Бывает. В некотором отношении работа наша довольно грязная.
– Но необходимая.
– О да.
Томми смущенно признался:
– Мне не меньше, чем всякому, противно лгать…
Но Таппенс его перебила:
– А мне это совершенно безразлично. Честно говоря, я даже получаю удовольствие от удачного, артистического обмана. Меня угнетают те моменты, когда забываешься и перестаешь притворяться, когда вдруг оказываешься собой, настоящей, и именно это, свое, дает результат, которого не получить иначе. – Она помолчала, а потом еще пояснила свою мысль: – Как, например, случилось с тобой вчера вечером, в разговоре с этой девушкой. Она откликнулась тебе настоящему, такому, какой ты на самом деле, – и поэтому у тебя так пакостно на душе.
– Должно быть, ты права, Таппенс.
– Я знаю по себе. У меня было то же самое, когда я разговаривала с молодым немцем.
– А что ты думаешь о нем?
Таппенс сразу ответила:
– Если хочешь знать мое мнение, по-моему, он ни во что не замешан.
– А Грант считает иначе.
– Уж этот твой Грант! – Таппенс вдруг развеселилась и хихикнула. – Воображаю, какое у него было лицо, когда ты ему рассказал про меня!
– Во всяком случае, он признал свою ошибку и исправил ее. Теперь ты полноправный участник нашей операции.
Таппенс кивнула, но немного рассеянно.
– Помнишь, после той войны, когда мы с тобой выслеживали мистера Брауна, как весело было? – сказала она. – Как мы увлеченно работали?

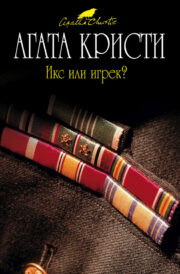



"Икс или игрек?" отзывы
Отзывы читателей о книге "Икс или игрек?", автор: Агата Кристи. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Икс или игрек?" друзьям в соцсетях.