Достопочтенный профессор слишком дорожил подобными реликвиями, чтобы доверить их получение и доставку кому-нибудь из подчинённых. Таким образом, с помощью г-на Шлезингера он намеревался принять коллекцию прямо на вокзале и разместить её в небольшой повозке, предоставленной для этой цели университетским руководством. Бóльшая часть книг и наиболее хрупких предметов прибыла упакованная в деревянные ящики, однако значительная часть оружия была без особых затей обложена соломой, так что разгрузка оказалась делом отнюдь не лёгким.
Тем не менее профессор был настолько озабочен тем, как бы бесценные реликвии не повредились, что решительно отверг услуги носильщиков. Каждый из экспонатов переносился по перрону непосредственно г-ном Шлезингером и передавался им прямо в руки профессору фон Гопштейну, который находился в повозке и занимался погрузкой.
Когда всё было уложено, оба учёных, печась о сохранности груза, вернулись в университет. Профессор был в превосходном настроении. Он явно гордился тем, что смог в свои преклонные годы выказать столько умения и сноровки при погрузке всех этих весьма тяжеловесных и громоздких предметов. Он даже отпустил по этому поводу несколько шутливых замечаний Рейнмаулю, университетскому привратнику, который с помощью своего друга Шиффера, еврея из Богемии, разгружал повозку по прибытии её в университет.
После того как реликвии были надёжно размещены в университетском хранилище, профессор самолично запер дверь, передал ключ от неё своему помощнику, г-ну Шлезингеру, и, попрощавшись со всеми, отправился домой. Г-н Шлезингер, со своей стороны, ещё раз убедившись, что всё в полном порядке, также ушёл, оставив Рейнмауля с его приятелем Шиффером курить в привратницкой.
В одиннадцать часов вечера, приблизительно через полтора часа после ухода фон Гопштейна, один солдат 14-го стрелкового полка, возвращаясь в казарму и проходя мимо здания университета, натолкнулся на тело профессора, лежавшее чуть поодаль от обочины дороги. Фон Гопштейн лежал ничком, раскинув руки. Голова была разрублена пополам страшным ударом, который, как видно, был нанесён сзади, поскольку на лице старика застыла мирная улыбка; должно быть, смерть настигла его внезапно, когда он был погружён в приятные мысли о своём последнем приобретении. Иных увечий на теле не обнаружено, если не считать отёка в области левого колена, вызванного, по всей видимости, ушибом уже после нанесения удара, когда профессор упал. Самое, пожалуй, необъяснимое в этой истории то, что кошелёк профессора с сорока тремя флоринами, а также дорогие часы остались нетронутыми. Стало быть, мотивом преступления не могло быть ограбление, если только убийцам не помешали прежде, чем они смогли довершить начатое.
Однако последнее предположение отпадает по той причине, что тело убитого, по-видимому, пролежало в таком положении не менее часа. Всё это дело окутано непроницаемой тайной. Д-р Лангенманн, знаменитый врач-криминалист, пришёл к выводу, что рана могла быть нанесена тяжёлым сабельным штыком, причём нападавший, несомненно, отличается незаурядной силой. Полиция воздерживается от каких-либо комментариев по данному поводу, а это даёт основания полагать, что она уже напала на след. Возможно, в скором времени преступники будут найдены».
Вот и всё, что сообщала об этом происшествии «Пештер Абендблатт». Тем не менее поиски полиции не пролили ни малейшего света на обстоятельства убийства. Не удалось найти даже намёка на след убийцы, и самые хитроумные уловки не помогли обнаружить ни малейшего повода, который мог бы послужить мотивом к совершению столь ужасного преступления. Покойный профессор был настолько поглощён своими научными изысканиями, что жил как бы отгородясь от мира, и определённо не мог дать повода кому бы то ни было для проявления враждебности. Оставалось только допустить, что удар этот был нанесён каким-то демоном, кровожадным дикарём.
Хотя городские власти были весьма далеки от того, чтобы прийти к какому-либо заключению касательно данного убийства, обыватели в городе, по своей подозрительности, всё же не замедлили найти козла отпущения. Как, может быть, помнит читатель, в первых газетных сообщениях фигурировало имя некоего Шиффера; было известно, что он оставался с привратником после ухода профессора. Шиффер был еврей, а к евреям в Венгрии всегда относились прескверно. Общественность стала громко требовать ареста Шиффера, но поскольку против него не было ни малейшей улики, то у властей всё же хватило здравого смысла не совершать столь опрометчивого шага.
Притом убелённый сединами Рейнмауль, один из наиболее уважаемых граждан города, клятвенно заверил, что Шиффер был неотлучно с ним, а когда солдат закричал от ужаса, они оба тотчас поспешили к месту трагического события. При таких обстоятельствах никому не приходило в голову обвинять Рейнмауля, но шёпотом поговаривали, будто его давняя и всем известная дружба с Шиффером вполне могла заставить его солгать, дабы выгородить приятеля.
Народные страсти начали накаляться, над Шиффером нависла серьёзная опасность расправы со стороны разъярённой толпы, когда вдруг произошло событие, заставившее взглянуть на всю эту историю под совершенно иным углом зрения.
Утром 12 декабря, то есть ровно через девять дней после таинственного убийства профессора, на окраине Большой площади Будапешта был найден окоченелый труп Шиффера, еврея из Богемии; тело его было так изувечено, что опознать его составило немало труда. Голова оказалась рассечена пополам почти так же, как и у фон Гопштейна.
При осмотре тела обнаружили множество глубоких ран, как если бы убийца был вне себя и в ярости продолжал наносить своей жертве удары. Накануне выпало много снега, огромная площадь вся оказалась заметена сугробами толщиною более фута. Снег шёл и ночью, как явствует из того, что он тонкой плёнкой, словно саваном, покрыл тело Шиффера.
Поначалу надеялись, что данное обстоятельство поможет обнаружить следы, оставленные убийцами, но, к сожалению, убийство произошло в таком месте, где в дневное время бойко и людно. Следов было множество, и вели они во все стороны. Кроме того, снег, выпавший позднее, настолько исказил сами очертания следов, что было уже невозможно извлечь из них сколько-нибудь ценные сведения.
Тайна убийства, таким образом, казалась столь же непостижимой, а злодеяние – лишённым мотивов, как и убийство профессора фон Гопштейна. В одном из карманов Шиффера был найден бумажник, в котором содержалась значительная сумма золотом и множество крупных банкнот, но, по всей видимости, убийцами не было предпринято ни малейшей попытки завладеть ими. Если допустить, как предполагала полиция, будто кто-то, кому убитый одолжил денег, употребил столь варварское средство, чтобы избежать необходимости вернуть долг, трудно было поверить, что злодей в таком случае оставил нетронутой подобную добычу.
Шиффер жил у вдовы по фамилии Груга на улице Марии-Терезы, 49, и допрос домовладелицы и её детей позволил установить, что весь предыдущий вечер Шиффер провёл, запершись у себя дома, в состоянии самой глубокой подавленности, связанной, по-видимому, с теми слухами, что ходили в городе на его счёт. Домовладелица слышала, как к одиннадцати часам вечера он вышел из дому на прогулку, оказавшуюся для него роковой, и поскольку у него был ключ от входной двери, она легла спать, не дожидаясь его возвращения. Если он выбрал себе для прогулки столь поздний час, то, видимо, потому, что не чувствовал себя в безопасности днём, боясь, что его узнают на улице.
Это второе убийство, совершённое вскоре же после первого, вызвало необычайное беспокойство и даже панику не только в Будапеште, но и во всей Венгрии. Казалось, нет такого человека, который мог бы быть уверен, что его минует страшная участь – смерть от неведомой силы. Единственное, что сопоставимо со всеобщим напряжением, царившим тогда в Венгрии, так только настроения у нас в Англии после злодейств, совершённых Вильямсом, как всё это описано у де Квинси.
Столь разительно было сходство между убийством фон Гопштейна и убийством Шиффера, что казалось невозможным усомниться в существовании между обоими преступлениями некой связующей причины. Отсутствие мотива, отсутствие ограбления, полнейшее отсутствие следов и улик, обличающих убийцу, наконец, чудовищность ран, нанесённых, по-видимому, тем же самым или схожим оружием, – всё это указывало на общность источника.
Таково было положение дел к тому времени, когда случились события, о которых я расскажу сейчас, но чтобы рассказ этот был более понятным, мне придётся начать с другого.
Отто фон Шлегель был младшим отпрыском славного рода силезских Шлегелей. Отец его поначалу прочил ему армейскую карьеру, но, приняв к сведению мнение учителей, восхищённых талантами, кои проявлял юноша, он в конце концов отправил его изучать медицину в Будапештский университет. Молодой Шлегель отличился там во всех науках; многие полагали, что он блестяще сдаст выпускные экзамены, приумножив славу университета. Хотя читал он необычайно много, всё же его нельзя было назвать «книжным червём». Напротив, в молодом человеке кипели силы и била через край энергия; молодецкой удали и склонности ко всяческим юношеским проказам ему было не занимать, так что популярность его среди студентов и сотоварищей была необычайная.
Приближались очередные экзамены, и Шлегель упорно готовился, настолько упорно, что даже страшные убийства, повергшие будапештцев в ужас, не смогли отвлечь его от занятий. В рождественский вечер, когда окна домов ярко и празднично светились, а из винного погребка, расположенного в студенческом квартале, доносились разудалые застольные песни, он отказался от настойчивых приглашений и призывов на ночные пирушки и с книгами под мышкой отправился к своему приятелю Леопольду Штраусу, чтобы сообща позаниматься до зари.
Штраус и Шлегель были неразлучными друзьями. Оба уроженцы Силезии, они знали друг друга с детства; их взаимная привязанность вошла в университете в поговорку. Штраус был, пожалуй, столь же замечательным студентом, как и сам Шлегель; между земляками постоянно случались по такому поводу самые горячие состязания, но всё это служило только укреплению их дружбы, внося в неё элемент взаимного уважения. Шлегель восхищался неуёмным упорством и безграничным добродушием своего давнишнего товарища по играм, а тот взирал на Шлегеля, с его щедрыми талантами и блестящей способностью к учёбе, как на совершенный образец человеческой личности.





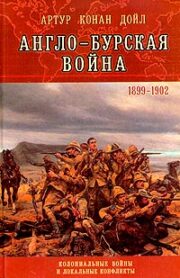
Этот сборник историй Артура Конан Дойла представляет собой истинное достояние английской литературы. Каждая история представляет собой приключение, полное захватывающих моментов и неожиданных поворотов событий. Особенно мне понравилась история «Хозяин Черного Замка», где главный герой противостоит магическим силам и доказывает свою доблесть. Это произведение позволяет погрузиться в мир волшебства и приключений, при этом предлагая много интересных идей. Я рекомендую этот сборник всем, кто любит хорошую литературу.