— В комнате у меня, бабушка.
— Они там сейчас у тебя. Я их слышу.
— Да, они убираются.
— Давно они там что-то. Ищут твою сумку. Держи ее всегда при себе.
Выписывать банковские счета было еще одним делом, с трудом дававшимся бабушке — из-за плохого зрения. Она заставляла Силию стоять рядом и говорить, в каком месте начинать писать и где кончается лист.
Потом со вздохом, выписав чек, она протягивала его Силии, чтобы та шла с ним в банк.
— Обрати, Силия, внимание: чек я выписала на девять фунтов, хотя счетов было меньше, чем на восемь. Но на восемь фунтов чек никогда не выписывай. Такой легко переправить на восемьдесят.
Поскольку ходила в банк сама Силия, она и была единственной, кто имел возможность подделать чек, но бабушке это как-то не приходило в голову. Это была часть ее неистовой борьбы за самосохранение.
Еще она огорчалась, когда Мириам ласково уговаривала ее заказать себе новые платья.
— Ты знаешь, мама, платье, что на тебе, почти совсем обтрепалось.
— Мое бархатное платье? Мое красивое бархатное платье?
— Да. Тебе не видно, но оно в ужасном состоянии.
Бабушка жалобно вздыхала, и на глазах у нее выступали слезы.
— Мое бархатное платье! Мое хорошее бархатное платье. Я покупала его в Париже.
Бабушка страдала от того, что вынуждена была покинуть свой прежний дом. После Уимблдона ей было ужасно скучно в деревне. Мало кто заглядывает в гости, и ничего не происходит. В сад она никогда не выходила, боясь свежего воздуха. Она сидела в столовой, как сиживала, бывало, в Уимблдоне, и Мириам читала ей газеты, а затем время для обеих тянулось медленно-медленно.
Чуть ли не единственным бабушкиным развлечением было заказывать продукты в огромных количествах и — когда продукты доставляли, — обсуждать, в какое потайное место их лучше всего припрятать, чтобы потом никто не мог обвинить в накоплении и хранении чрезмерных запасов. Верхние полки шкафов были заставлены банками сардин и сухим печеньем; консервированные языки и пачки сахара были припрятаны в таких местах, где никто не догадался бы их искать. Бабушкины сундуки были полным-полны банками с патокой.
— Бабуленька, не надо было бы тебе делать этого!
— Ха! — издавала добродушный смешок бабушка. — Вы, молодежь, ничего не понимаете. В осажденном Париже люди крыс ели. Крыс! Наперед надо думать, Силия, меня воспитали думать наперед. — Тут бабушкино лицо неожиданно становилось настороженным. — Прислуга — они же опять у тебя в комнате. Где твои драгоценности?
Силию несколько дней слегка подташнивало. В конце концов она совсем слегла, мучаясь от сильнейшей рвоты.
Она спросила:
— Мамочка, как ты думаешь, может, у меня ребенок будет?
— Боюсь, что да.
У Мириам был озабоченный и подавленный вид.
— Боишься? — с удивлением переспросила Силия. — Ты не хочешь, чтобы у меня был ребенок?
— Нет, не хочу. Пока еще нет. Ты сама-то очень хочешь ребенка?
— Как сказать, — размышляла Силия, — я об этом не думала. Мы с Дермутом никогда не говорили о том, что у нас будет ребенок. Мы, наверное, знали, что он может быть. Я бы не хотела, чтобы его не было. У меня было бы тогда такое чувство, словно я что-то упустила…
На выходные приехал Дермут.
Все было совсем не так, как описывается в романах. Силию по-прежнему ужасно рвало.
— Как по-твоему, Силия, почему тебя так тошнит?
— Думаю, у меня будет ребенок.
Дермут был страшно расстроен.
— Я не хотел, чтобы у тебя был ребенок. Я чувствую себя скотиной — настоящей скотиной. Я просто не могу видеть тебя такой больной и несчастной.
— Но, Дермут, я очень этому рада. Было бы ужасно, если бы у нас не было ребенка.
— Мне это безразлично. Я не хочу иметь ребенка. Ты все время будешь думать о нем, а не обо мне.
— Не буду, не буду.
— Нет, будешь. Таковы женщины. Они тогда начинают заниматься только домом, все время возятся с младенцами. Они напрочь забывают о мужьях.
— Я не забуду. Я буду любить ребенка, потому что это твой ребенок, — разве ты не понимаешь? Именно от того, что это твой ребенок, мне так хорошо, а не потому, что это просто ребенок. И всегда я больше всех буду любить тебя — всегда, всегда, всегда…
Дермут отвернулся — в его глазах стояли слезы.
— Мне это невыносимо. Ведь я с тобой такое сделал. Я мог не допустить этого. Ты ведь даже умереть можешь.
— Не умру. Я ужасно сильная.
— А бабушка твоя говорит, что ты очень слабенькая.
— Но это ведь бабушка. Она и мысли допустить не может, что у кого-то отменное здоровье.
Дермута пришлось долго успокаивать. То, что он так переживал из-за нее, так за нее волновался, очень тронуло Силию.
Когда они вернулись в Лондон, он буквально пылинки с нее сдувал, требуя, чтобы она ела самые хорошие продукты и принимала всякие снадобья от тошноты.
— Через три месяца станет лучше. Так в книгах написано.
— Три месяца — срок долгий. Не хочу, чтобы три месяца тебя рвало.
— Это противно, но что поделаешь.
Беременность, сочла Силия, — штука малоприятная.
В книгах было совсем по-другому. Она-то представляла себе, как будет сидеть и шить чудесные маленькие вещички и предаваться прекрасным думам о нарождающемся младенчике.
Но как можно погружаться в приятные думы, когда тебя так мутит, словно переплываешь Ла-Манш на пароме? Сильная рвота гонит всякую мысль! Силия ощущала себя животным — здоровым, но страдающим.
Ее тошнило не только по утрам, но и потом весь день — через неравные промежутки времени. Это не только доставляло неудобство, но и становилось кошмаром — ведь неизвестно, когда начнется очередной приступ. Дважды она едва-едва успевала выскочить из автобуса и добежать до канавы. В таком положении принимать приглашения, идти к кому-нибудь в гости становилось делом небезопасным.
Силия сидела дома, чувствуя себя ужасно, иногда выходила на прогулку, чтобы размяться. Пришлось отказаться от курсов. От шитья у нее начинала кружиться голова. Она ложилась в кресло и читала или же слушала воспоминания миссис Стедмен, имевшей богатый опыт по части акушерских дел.
— Помню, тогда ждала я Беатрис. Ни с того ни с сего на меня нашло это прямо в зеленной лавке (я заглянула туда, чтобы купить полфунта брюссельской капусты). Вот хочу ту грушу, и все тут! Большая такая груша и очень сочная — дорогого сорта, из тех, что богачи едят на десерт. В два счета я ее сцапала и уплела. Парнишка, который меня обслуживал, так и вытаращил на меня глаза — и было с чего! Но хозяин, человек семейный, смекнул, в чем дело. «Все в порядке, сынок, — сказал он, — не обращай внимания». — «Уж вы простите меня», — говорю. «Да чего уж там, — отвечает, — у меня своих семеро, и жена в последний раз только и думала, что о маринованной свинине».
Миссис Стедмен помолчала, переводя дух, и прибавила:
— Хотелось бы мне, чтобы ваша матушка была с вами, но, конечно, о старушке думать надо, о бабушке вашей.
Силии очень бы хотелось, чтобы приехала мама. Дни стали кошмарными. Зима выдалась сырая, каждое утро — густой туман. И так долго ждать, пока вернется с работы Дермут.
Но он был таким милым, когда возвращался. Так за нее переживал. Обычно он приносил очередную книгу о беременности и после ужина читал ей оттуда:
— «Женщины в таком положении иногда испытывают неудержимое желание есть необычные, экзотические блюда. В прежние времена считалось, что подобные желания надо обязательно удовлетворять. В наше время такие желания надо сдерживать, если они вредны». А у тебя, Силия, есть тяга к экзотической еде?
— Мне все равно, что есть.
— Я тут кое-что читал о сне в сумерки. Кажется, это как раз то, что надо.
— Дермут, когда, по-твоему, меня перестанет тошнить? Ведь уже больше четырех месяцев.
— Скоро должно перестать. Во всех книгах так написано.
Но несмотря на то, что написано было в книгах, тошнота никак не прекращалась.
Дермут, по собственному почину, предложил Силии поехать к матери.
— Плохо тебе сидеть здесь целыми днями.
Но Силия отказалась. Она знала, что, если уедет, он может обидеться. Она и сама не хотела уезжать. Все будет в порядке, она не умрет, как нелепо предположил Дермут, но просто на всякий случай, с женщинами же бывает и такое… она не собирается упустить ни минутки из своей жизни с Дермутом…
Как бы ни тошнило ее, она любила Дермута по-прежнему — больше, чем прежде.
И он был с ней так мил и так забавен. Как-то вечером она заметила, что у него шевелятся губы.
— Что случилось, Дермут? О чем ты сам с собой разговариваешь?
Вид у Дермута был глуповатый.
— Я только что представил себе, как врач мне говорит: «Мы не можем спасти и мать, и ребенка». А я отвечаю: «Разорвите ребенка на куски».
— Дермут, как можно быть таким жестоким.
— Я ненавижу его за то, что он с тобой делает, — если это он. Я хочу, чтобы это была она. Я бы не возражал, чтобы была голубоглазая длинноногая девчушка. Но я ненавижу самую мысль о противном маленьком мальчишке.
— Это мальчик. Я хочу мальчика. Мальчика в точности такого, как ты.
— Я его буду колотить.
— Какой же ты злой!
— Долг отца — колотить своих детей.
— Ты ревнуешь, Дермут.
Он ревновал, ревновал до противности.
— Ты красивая. Я хочу тебя всю для себя.
Силия засмеялась и сказала:
— Как раз сейчас я особенно красивая.
— Ты будешь опять красивой. Посмотри на Глэдис Купер[242]. У нее двое детей, а она все так же восхитительна, как всегда. Когда я об этом думаю, для меня это как утешение.

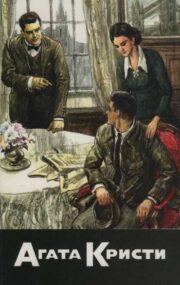

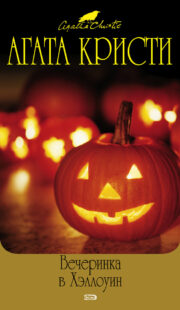
"Хлеб великанов. Неоконченный портрет. Вдали весной" отзывы
Отзывы читателей о книге "Хлеб великанов. Неоконченный портрет. Вдали весной", автор: Агата Кристи. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Хлеб великанов. Неоконченный портрет. Вдали весной" друзьям в соцсетях.