Итак, я вошел к ней в комнату. Она была в постели — сидела, ее светлые, золотистые волосы были зачесаны назад. Не думаю, чтобы она усмотрела в наших отношениях что-то странное. Я-то уж точно ничего не усматривал. Но не знаю, что думали служащие гостиницы. Если они знали, что я вошел к ней в комнату в десять вечера, а вышел в семь утра, то, полагаю, они пришли к известному — единственно возможному для них — заключению. Но меня это не волновало.
Я спасал только жизнь; репутация меня не заботила.
Я присел на кровать, и мы завели разговор.
Мы проговорили всю ночь.
Странная ночь — такой в моей жизни еще не было.
Я не говорил с ней о ее бедах. Мы начали с самого начала — с лиловых ирисов на обоях, с овечек на лугу, с долины за станцией, где росли примулы…
Вскоре говорила уже она, а не я. Я перестал для нее существовать, превратившись в своего рода одушевленный записывающий аппарат, в который нужно было только наговаривать.
Она говорила так, как говоришь наедине с самим собой — или с Богом. Без жара, как вы понимаете, и без эмоций. Просто воспоминания, переходящие от одного эпизода к другому, с предыдущим не связанному. Как если бы она возводила здание собственной жизни, соединяя зыбкими переходами разрозненные, но значительные эпизоды.
Когда задумаешься над этим, понимаешь, насколько бывает странным то, о чем мы предпочитаем вспоминать. Какой-то отбор наверняка делается, хотя бы подсознательно. Посмотрите мысленно назад, загляните в свое детство, возьмите любой год. Припомнится, наверное, пять-шесть картинок. Скорее всего — не особенно важных. Но почему тогда вспомнились именно они, именно эти эпизоды — из всего того, что приключилось с вами в те триста шестьдесят пять дней? Некоторые из них даже в то время значили для вас не много. И все же удержались в памяти. И дошли — вместе с вами — до сего дня.
Именно с той ночи, как я уже говорил, я увидел Силию изнутри. Я могу писать о ней, как я сказал, с позиции Всевышнего… Постараюсь так и писать.
Она рассказала мне обо всем — о том, что имело значение, и о том, что не имело. Она не старалась придать своему рассказу форму связного повествования.
А я хотел как раз этого! Мне казалось, я уловил ту нить, которой сама она не видела.
Было семь утра, когда я ушел от нее. Она повернулась на бок и уснула, как дитя… Опасность миновала.
Словно бы тяжкий груз свалился с ее плеч и лег на мои. Она была вне опасности…
Чуть позже тем утром я проводил ее на пароход и простился.
В тот момент это и случилось. То, что, как мне кажется, и есть самое главное…
Может быть, я не прав… Может быть, это был всего-навсего обычный тривиальный случай…
Как бы то ни было, сейчас я об этом писать не стану.
До тех пор не стану, пока не попробую стать Богом и либо провалюсь, либо преуспею на этом поприще.
Попытался запечатлеть ее на ином холсте, пользуясь этим новым, покуда незнакомым мне средством изображения…
Словами…
Нанизанными одно на другое словами…
Ни кисточек, ни тюбиков с красками — ничего такого, что давно мне дорого и знакомо.
Портрет в четырех измерениях — поскольку в вашем, Мэри, ремесле есть и пространство и время..
Книга вторая ХОЛСТ
«Готовьте холст. Есть сюжет»
Глава 1
Дома
Силия лежала в кроватке и разглядывала лиловые ирисы на стенах детской. Ей было хорошо и хотелось спать.
Кроватка была отгорожена ширмой, чтобы не бил свет от няниной лампы. А за ширмой — невидимая Силии — сидела и читала Библию няня. Лампа у нее была особенная — медная, пузатая, с абажуром из розового фарфора. От нее никогда не пахло гарью, поскольку Сьюзен, горничная, была очень старательная. Сьюзен хорошая, — Силия знала это, — хотя и водился за ней грешок: она иногда уж очень начинала усердствовать. Когда она усердствовала, то почти всегда сбивала какую-нибудь вещицу. Она была крупной девушкой с локтями цвета сырого мяса, почему-то вызывающими у Силии ассоциацию с загадочным выражением «протертые в локтях».
Слышался тихий шепот. Няня бормотала, читая Библию. Силию это убаюкивало. Веки ее сомкнулись…
Открылась дверь, и вошла Сьюзен с подносом. Она старалась передвигаться бесшумно, но мешали скрипучие башмаки.
Она сказала, понизив голос:
— Извините, сестрица, что я задержалась с ужином.
А няня только и произнесла в ответ:
— Тише, она уснула.
— Упаси Боже мне разбудить ее. — Сьюзен, пыхтя, заглянула за ширму.
— Нет, ну не лапочка? Моя племяшка и вполовину не такая смышленая.
Повернувшись, Сьюзен наткнулась на столик. Ложка брякнулась на пол.
Няня мягко заметила:
— Постарайся не шуметь так, Сьюзен, девочка.
Сьюзен искренне огорчилась:
— Ей-богу, нечаянно!
И вышла из комнаты на цыпочках, отчего башмаки ее заскрипели еще громче.
— Няня, — осторожно позвала Силия.
— Да, детка, что случилось?
— Я не сплю, няня.
Няня сделала вид, что не поняла намека. Она просто переспросила:
— Не спишь, милая?
Пауза.
— Няня?
— Да, детка.
— А тебе вкусно, няня?
— Очень.
— А что ты ешь?
— Вареную рыбу и пирог с патокой.
— Ой! — Силия захлебнулась от восторга.
Пауза. А потом няня выглянула из-за ширмы. Маленькая седая старушка в батистовом чепце, завязанном под подбородком. Она держала вилку, на кончике которой был крохотный кусочек пирога.
— А теперь будь хорошей девочкой и давай спи. — У няни был строгий голос.
— О да, — горячо проговорила Силия.
Верх блаженства! Кусочек пирога уже во рту. Невероятная вкуснотища.
Няня опять исчезла за ширмой. Силия повернулась на бок и свернулась калачиком. Лиловые ирисы плясали в свете лампы. Сладость разливалась от пирога с патокой. Убаюкивающее шуршанье кого-то в комнате. Полнейший покой на душе.
Силия засыпает…
День рождения — Силии три года. В саду устроили чай с эклерами. Ей разрешили взять всего один, а Сирилу — три. Сирил — ее брат. Большой мальчик — ему четырнадцать. Он хотел взять еще, но мама сказала:
— Хватит, Сирил.
Последовал обычный в таких случаях разговор. Сирил затянул свое вечное:
— Ну почему?
Маленький красный паучок, в микроскоп не разглядеть, пробежал по белой скатерти.
— Посмотри, — сказала мать, — это к счастью. Он бежит к Силии, потому что у нее день рождения. Значит, она будет очень счастливой.
Силия разволновалась и заважничала. А дотошный ум Сирила принял другое направление.
— А почему пауки — к счастью, мам?
Наконец Сирил ушел, и Силия осталась с матерью. Наедине. Мама улыбалась ей с того конца стола — улыбалась хорошей, настоящей улыбкой, а не так, как улыбаются забавным малышам.
— Мамочка, — попросила Силия, — расскажи мне что-нибудь.
Она обожала мамины рассказы — они были совсем не такими, как у других людей. Другие — если их попросишь, — начинали рассказывать про Золушку, про Джека и Бобовый стебель[118], про Красную Шапочку. Няня рассказывала про Иосифа и его братьев[119] и про Моисея в камышах[120]. (Камыши всегда казались Силии какими-то деревянными сараями, в которых кишели мыши.) Иногда она рассказывала про приключения детей капитана Стретгона[121] в Индии. А вот мамочка!
Главное дело, заранее никогда не догадаешься, о чем будет рассказ. Может быть, о мышах… или о детях… или о принцессах. О чем угодно… Единственный недостаток мамочкиных рассказов был в том, что она никогда не повторяла их. Она говорила (и этого Силия никак не могла понять), что не запоминает их.
— Хорошо, — сказала мамочка, — о чем?
Силия затаила дыхание.
— Про Ясноглазку, — попросила она. — Про Длиннохвостку и сыр.
— О, это я совсем забыла. Нет уж, пусть будет новая сказка.
Она смотрела куда-то через стол, на мгновение показалось, что она ничего не видит, в ясных карих глазах плясали огоньки, нежное продолговатое лицо стало серьезным, маленький с горбинкой нос чуть задрался кверху. Она вся напряглась, пытаясь сосредоточиться.
— Знаю, — словно вернувшись внезапно откуда-то издалека, вдруг говорит ежа. — Это будет сказка про Любознательную свечку…
— О! — захлебнулась от восторга Силия. Ей было уже интересно, она сидела завороженная… Любознательная свечка!
Силия росла серьезной девочкой. Она много думала о Боге и о том, чтобы быть хорошей и благочестивой. Когда надо было ломать куриную дужку и загадывать при этом желание, она всегда хотела быть доброй. Конечно, она была, увы, немножко привереда, но, по крайней мере, старалась не проявлять этого, таить про себя.
Временами ей становилось ужасно страшно оттого, что она суетная (странное, загадочное слово). Такое случалось особенно тогда, когда она в накрахмаленном муслиновом платье с широким золотисто-желтым кушаком спускалась к десерту. Но в целом она была собой довольна. Она — Божья избранница. Ее душа уже спасена.
Но вот родные вызывали у нее чудовищные опасения. Ужасно, конечно, но даже насчет матери уверенности у нее не было. А что, если мамочка не попадет в рай? Мысль об этом мучила и изводила.
Правила были очень ясны. Играть по воскресеньям в крокет[122] — грех. Играть на пианино тоже грешно (если это не псалмы). Силия скорее умерла бы, добровольно приняв мученическую смерть, чем в Божий день дотронулась бы до крокетного молотка, хотя в любой другой день любимейшим ее наслаждением было гонять шары по газону — если ей это разрешали.

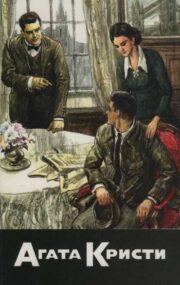
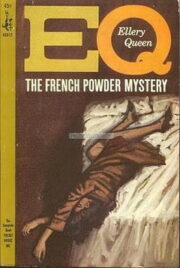



"Хлеб великанов. Неоконченный портрет. Вдали весной" отзывы
Отзывы читателей о книге "Хлеб великанов. Неоконченный портрет. Вдали весной", автор: Агата Кристи. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Хлеб великанов. Неоконченный портрет. Вдали весной" друзьям в соцсетях.