Потом сказала беспечно:
— А вот и я, Родни… я вернулась домой…
Эпилог
Родни Скьюдмор устроился в небольшом, невысоком кресле, а его жена разливала чай, звякала ложечками и оживленно болтала о том, как ей приятно быть снова дома, как она рада, что тут все без изменений и что он даже себе не представляет, до чего отрадно вернуться в Англию, и в Крейминстер, и в родные стены!
Между оконными рамами, тычась о стекло то снизу, то сверху, важно жужжала обманутая необычно теплым началом ноября большущая муха.
Ж-жж, ж-жж, ж-жж, — не унималась муха.
Динь, динь, динь, — звенел голос Джоан Скьюдмор.
Родни улыбался и кивал головой.
Звуки, думал он, звуки…
Для одних значат много, для других — ничего.
Он ошибся, решил он, подумав, что Джоан какая-то необычная, когда она только приехала. Она точно такая, как всегда. Все точно так, как всегда.
Вскоре Джоан поднялась наверх распаковать вещи, а Родни прошел через холл к себе в кабинет, где его дожидались кое-какие захваченные с собой бумаги.
Но для начала, отперев правый верхний ящик стола, он достал оттуда письмо Барбары. Отправленное авиапочтой, оно пришло за несколько дней до отъезда Джоан из Багдада.
Это было длинное, написанное мелким почерком письмо, и он уже знал его почти наизусть. И тем не менее, он перечитал его с начала до конца, задержавшись немного на последней страничке.
… Теперь, милый папа, я рассказала тебе все. Подозреваю, что о многом ты сам догадался. Ты не должен обо мне беспокоиться. Я поняла, что чуть было не совершила преступной глупости. Запомни, мама ничего не знает. Было трудно ее обмануть, но доктор Маккуин разыграл все как по нотам и Уильям не подкачал. Я просто не знаю, что бы делала без него, он все время был рядом, готовый отразить любое мамино нападение. Я пришла в отчаяние, когда она телеграфировала, что выезжает. Я уверена, мой родной, что ты пробовал ее задержать, но остановить ее невозможно, и я думаю, что по-своему она проявила доброту, но, естественно, перекроила всю нашу жизнь на свой лад, и это просто сводило нас с ума, а я была слишком слабой, чтобы сопротивляться! Я только сейчас начинаю чувствовать, что Мопси опять моя! Она просто прелесть. Мне бы хотелось, чтобы ты увидел ее. Ты любил нас, когда мы были младенцами, или полюбил позже? Родной мой папочка, я бесконечно счастлива, что у меня есть такой отец, как ты. Не беспокойся обо мне. У меня теперь все хорошо.
Родни с минуту размышлял, держа письмо в руке Он бы с радостью сохранил его. Оно для него много значило — письменное свидетельство того, что дочь надеется на него и доверяет ему. Но профессиональный опыт не раз доказывал ему, что хранить письма опасно. Если он внезапно умрет, а Джоан, разбирая бумаги, найдет письмо, это причинит ей ненужную боль. Не стоит обижать и разочаровывать ее. Пусть будет счастлива и чувствует себя безопасно в созданном ею для самой себя светлом и понятном мирке.
Родни пересек кабинет и бросил письмо в огонь. Да, подумал он, у нее теперь все хорошо. У детей все хорошо. Больше других он всегда боялся за Барбару, неуравновешенную, излишне чувствительную. Что ж, кризис наступил, и она выкарабкалась: пускай не невредимая, но живая. И понимает, что Мопси и Билл — ее истинная жизнь. Отличный парень Билл Рэй. Родни надеялся, что он не слишком сильно страдал.
Да, у Барбары все будет нормально. И у Тони все нормально в его апельсиновых рощах в Родезии, далековато, но зато нормально, и его молодая жена, кажется, подходит ему У Тони никогда не было больших огорчений — возможно, и не будет. Он воспринимает мир светло.
И у Аврелии все теперь в порядке. Об Аврелии Родни всегда думал с гордостью, а не с сочувствием. Аврелия с ее здравым умом и твердым характером. Острая на язык. Крепкая, как скала, несгибаемая: какое неподходящее имя они ей дали.
Он сражался с Аврелией и победил, победил с помощью единственного оружия, которому готов был подчиниться ее трезвый рассудок, оружия, которое ему было так неприятно использовать. Логика, холодные, безжалостные доводы, и она согласилась с ними.
Но простила ли дочь отца? Скорей всего, нет. Но это не имеет значения. Пускай он и утратил любовь Аврелии, но зато она его по-прежнему уважает, а ведь в конце концов, полагал Родни, для несгибаемо прямолинейных натур вроде нее последнее куда важнее.
Вечером накануне свадьбы, обращаясь к любимейшему своему ребенку, от которого его теперь отделяла пропасть, он сказал:
— Надеюсь, ты будешь счастлива.
— Я постараюсь стать счастливой, — ответила Аврелия твердо.
Такова была Аврелия: ни героизма, ни сожалений о прошлом, ни жалости к себе. Продуманное отношение к жизни и умение обходиться без посторонней помощи.
Они больше от меня не зависят, все трое, думал он.
Отодвинув в сторону скопившиеся на столе бумаги, Родни подошел к креслу, которое стояло справа от камина. Он прихватил с собой договор об аренде Мэссингэма и со вздохом принялся снова читать его с самого начала.
«Землевладелец отдает, а арендатор получает все строения на ферме, землю и дома, расположенные на..»
Он перевернул страницу.
«…не снимать больше двух урожаев зерновых с любого участка предоставленной земли, не оставив ее на лето под паром (съеденный овцами урожай турнепса и рапса, выращенный на тщательно очищенной и обработанной почве, приравнивается к содержанию под паром), а также..»
Опустив руку, Родни поискал глазами кресло напротив.
Именно там сидела Лесли, когда он говорил с ней о детях и доказывал, что для них лучше быть подальше от Шерстона. Мать обязана, сказал он, в первую очередь думать о детях.
Она думает, ответила Лесли, и ведь Шерстон как-никак их отец.
Отец, отсидевший в тюрьме, возразил он, бывший заключенный Существует общественное мнение, детей подвергнут остракизму[335], нельзя лишать их нормального существования, это эгоизм, они ни в чем не виноваты. Ее долг помнить обо всем этом. У мальчиков, настаивал Родни, жизнь не должна быть ничем омрачена. И начало у этой жизни должно быть справедливым.
И Лесли сказала:
— Вот именно. Он — их отец. Важнее не то, что они принадлежат ему, а то, что он принадлежит им. Мне бы хотелось, конечно, чтобы их отец был другим, но тут уж ничего не поделаешь.
И еще она сказала:
— Разве правильно начинать жизнь, прячась от реальности?
Что ж, ему, разумеется, были ясны ее соображения. Но он думал иначе. Он всегда хотел, чтобы у его детей было все самое лучшее, — и они с Джоан не жалели для этого сил. Лучшие школы, самые солнечные комнаты в доме — они отказывали себе кое в чем, чтобы это стало возможным.
Но им никогда не приходилось делать нравственный выбор. Не было ни позора, ни бесчестия, ни провала, ни отчаяния, ни стыда: ничего, что бы заставило их задаться вопросом: «Как нам поступить — уберечь их или лучше, чтобы они разделили все это с нами?»
А Лесли не сомневалась, как лучше. Любовь к детям не помешала ей переложить часть груза на их хрупкие, неокрепшие плечи. Это был не эгоизм, не попытка облегчить себе ношу, она просто не хотела ограждать их даже от самой тяжелой действительности.
Да, Родни казалось, что она ошибается. Но он, как всегда, не мог отказать ей в мужестве. Мужества ей хватало сполна. Хватало и на тех, кого она любила.
Он запомнил, как Джоан сказала в тот осенний день, когда он уходил на работу:
«Мужество? Да, конечно, но мужество — это еще не все».
А он спросил:
«Разве?»
Лесли сидела в его кресле, чуть приподняв левую бровь и опустив правую, левый уголок ее рта немного кривился, голову она положила на бледно-голубую подушку, отчего ее волосы казались… какими-то… зеленоватыми.
«У вас волосы не каштановые. Они зеленые».
Это были единственные за все время слова, в которые Родни вложил что-то личное. Он никогда особенно не задумывался о том, как она выглядит. Усталая, это понятно, больная — но тем не менее сильная — да, физически сильная. Однажды ни с того ни с сего он подумал, что она могла бы вскинуть на плечо мешок картошки, как мужчина.
Мысль не сказать чтобы романтическая, да и вообще романтических воспоминаний, связанных с Лесли, у него не осталось. Правое плечо выше левого, левая бровь поднята вверх, правая опущена вниз, уголок рта немного кривится, когда она улыбается, каштановые волосы, которые отливают зеленью на фоне бледно-голубой подушки…
Не слишком много, подумал он, чтобы подпитывать любовь. А что такое любовь? Ради всего святого, что такое любовь? Мир и покой, которые снизошли на него, когда она сидела в его кресле, откинув зеленоватую голову на голубую подушку? Или то, как она вдруг сказала:
— Вы знаете, я думала о Копернике…[336]
Коперник? При чем тут, скажите на милость, Коперник? Монах, которого осенила идея… идея, заключавшаяся в том, что у Земли другие очертания, и который оказался достаточно изворотлив и находчив, чтобы поладить с сильными мира сего и изложить свою теорию в такой форме, что в нее поверили.
Почему Лесли, чей муж сидел в тюрьме и которая вынуждена была сама растить детей и заботиться об их пропитании, проведя рукой по волосам, произнесла: «Я думала о Копернике».
Однако именно с тех пор замирало всегда у Родни сердце при упоминании имени Коперника, и потому он повесил на стену старинную гравюру с изображением монаха, словно говорившего ему: «Лесли».
Он подумал, что должен был все-таки признаться ей в своей любви. Хотя бы сказать.

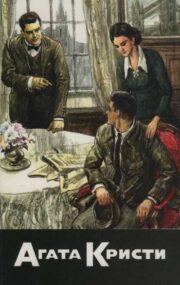
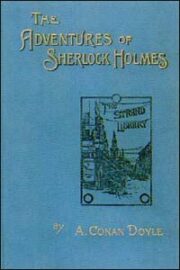

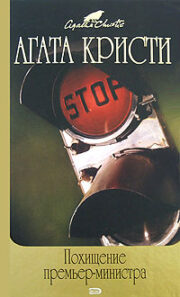

"Хлеб великанов. Неоконченный портрет. Вдали весной" отзывы
Отзывы читателей о книге "Хлеб великанов. Неоконченный портрет. Вдали весной", автор: Агата Кристи. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Хлеб великанов. Неоконченный портрет. Вдали весной" друзьям в соцсетях.