Коль мой пример того не подтверждает,
То на земле никто любви не знает.
Джоан дочитала до конца, особо подчеркнув последние строки и усилив их драматическое звучание.
— Тебе не кажется, что я неплохо читаю Шекспира? В школе мне часто поручали читать стихи. Говорили, я читаю с выражением.
Но Родни лишь рассеянно ответил:
— Тут не обязательно с выражением. Достаточно самих слов.
Вздохнув, Джоан пролепетала:
— Шекспир — чудо, правда?
А Родни ответил:
— Чудо, что он был такой же бедолага, как и все мы.
— Родни, что за странная идея?
Улыбнувшись ей и словно просыпаясь, он спросил:
— Отчего же?
А потом встал и вышел из комнаты, бормоча:
— «Ломает буря майские цветы, и так недолговечно лето наше!»
И почему это он сказал: «Но сейчас-то ведь октябрь?»
О чем он думал?
Джоан помнила тот октябрь, какой-то особенно красивый и мягкий.
Странно, но сейчас ей пришло в голову, что Родни расспрашивал ее о сонетах вечером того самого дня, когда она видела их с миссис Шерстон на Эшлдауне. Возможно, миссис Шерстон цитировала Шекспира, но вообще-то едва ли. Лесли Шерстон, казалось ей, была не особенно образованная женщина.
Октябрь в тот год был восхитительный.
Она хорошо помнит, как через несколько дней Родни спросил у нее с удивлением:
— Разве он должен цвести в это время года? — и показал на рододендрон[292]. Один из тех, что обычно рано зацветают, в марте или в конце февраля. Но этот цвел сейчас пышными кроваво-красными цветами и был сплошь усыпан бутонами.
— Нет, — ответила Джоан. — Цветут они весной, но иногда распускаются осенью, если погода стоит ровная и теплая.
Родни нежно коснулся одного из бутонов пальцами и проговорил едва слышно:
— «Ломает буря майские цветы…»
— Обычно этот зацветает в марте, — поправила Джоан, — а не в мае.
— Они как кровь, — сказал Родни, — кровь сердца.
Как непохоже на него, подумала она, интересоваться цветами…
Но потом ему всегда нравился именно этот рододендрон.
Джоан не забыла, как спустя много лет он даже вдел себе в петлицу большущий бутон.
А тот оказался слишком тяжелым и потому выпал, как она и предполагала.
Они тогда стояли на церковном кладбище, — место, что и говорить, не самое веселое.
Джоан заметила там Родни, проходя мимо церкви, подошла и спросила:
— Что ты здесь делаешь?
Он, рассмеявшись, ответил:
— Обдумываю свою грядущую кончину и собственный могильный камень. Что угодно, только не гранит — он слишком ломкий. И не пухлый мраморный ангел.
Она посмотрела вниз на совсем новенькую мраморную плиту с именем Лесли Шерстон.
Проследив за ее взглядом, Родни медленно прочитал вслух:
— «Лесли Эдлин Шерстон, горячо любимая жена Чарлза Эдварда Шерстона, упокоилась 11 мая 1930. И отрет Бог всякую слезу с очей их».[293]
Потом, помолчав с минуту, добавил:
— Странно отчего-то думать, что Лесли Шерстон лежит под этим вот ледяным куском мрамора, и, конечно, только прирожденный идиот вроде Шерстона мог выбрать подобные слова. Лесли, по-моему, никогда в жизни не плакала.
Джоан, очень осторожно, словно затевая некую богохульственную игру, спросила:
— А что бы выбрал ты?
— Для нее? Не знаю. Разве в «Псалмах» нет чего-нибудь подходящего? «Полнота радостей пред лицом Твоим»[294]. Псалмы. Что-нибудь оттуда.
— Вообще-то я имела в виду — для себя.
— A-а, для меня? — Родни подумал минуту-другую, улыбаясь своим мыслям. — «Господь пастырь мой. Он покоит и направляет овец своих»[295]. Вот это мне годится.
— Но тут загробная жизнь представляется какой-то унылой, так мне всегда казалось.
— А каким тебе видится рай, Джоан?
— Ну-у, не то чтобы всякие там золотые ворота и тому подобное, конечно. Но мне нравится представлять себе рай как государство. Где все дружно помогают сделать мир красивее и счастливее. Служение — таким мне видится рай.
— Какая же ты все-таки лицемерка, крошка Джоан. — Родни засмеялся, желая смягчить свою резкость. И продолжил: — А меня вполне устроила бы зеленая долина… и овцы, бредущие домой за своим пастухом в вечерней прохладе…
Помолчав минуту, он добавил:
— Глупая фантазия, Джоан, но иногда я воображаю, будто иду к себе в контору по Хай-стрит[296], сворачиваю в переулок, который ведет к Беллуок, а потом оказывается, что я по ошибке попал в незнакомую зеленую долину меж пологих лесистых холмов. И долина эта якобы была всегда, тайно существовала в самом сердце города. Сворачиваешь в нее с оживленной Хай-стрит и совершенно потрясенный спрашиваешь: «Где это я?» А потом тебе объясняют, понимаешь, ласково так, что ты умер…
— Родни! — Джоан была испугана, поражена. — Ты… ты нездоров. Ты не в себе.
Тогда она впервые обратила внимание на состояние мужа — предвестье того нервного срыва, что вскоре вынудил его провести несколько месяцев в санатории в Корнуолле, где он молча лежал, слушая чаек и глядя на море, открывавшееся за белесыми, голыми холмами.
Но до того дня на кладбище Джоан не замечала, что Родни слишком много работает. Они уже собирались домой, и она потянула его за собой, взяв под руку, и тут увидела, как большой бутон рододендрона, скользнув по его пальто, упал на могилу Лесли.
— Ой, смотри, — сказала она, — твой рододендрон. — И остановилась, чтобы поднять его.
Но Родни торопливо проговорил:
— Не трогай, пусть лежит. Оставим его Лесли Шерстон. Ведь все же… она была нашим другом.
И Джоан тут же согласилась, что это прекрасная мысль, и сказала, что завтра сама принесет сюда букет желтых хризантем.
Ее, помнится, немного насторожила загадочная улыбка Родни.
Да, Джоан определенно почувствовала в тот вечер, что с ним что-то неладно. Она, естественно, не понимала, что муж на грани полнейшего срыва, однако заметила, что он не такой, как обычно…
Она забросала его встревоженными вопросами по дороге домой, но он почти не отвечал ей. Лишь повторял снова и снова:
— Я устал, Джоан… Очень устал.
И только один раз как-то странно обмолвился:
— Все не могут быть мужественными.
Примерно через неделю как-то утром Родни сонно сказал:
— Я сегодня не буду вставать.
И остался лежать в постели, ни с кем не разговаривал и ни на кого не смотрел, просто лежал молча и улыбался.
А потом появились доктора, сиделки и в конце концов было решено, что он пройдет продолжительный курс лечения в Тревелиане. Ни писем, ни телеграмм, ни посещений. Даже Джоан не позволили приезжать к нему. Его собственной жене.
Это было грустное, смутное, странное время. И с детьми стало тоже очень трудно. Они не хотели помогать, вели себя так, будто это она, Джоан, во всем виновата.
…Позволяла ему горбатиться, и горбатиться, и горбатиться в конторе. Ты отлично знаешь, мама, что папа годами работал как каторжный.
— Знаю, мои милые, но что я могла сделать?
— Должна была вытащить его оттуда давным-давно. Неужели ты не знаешь, как он все это ненавидит? Ты что, ничего не знаешь о папе?
— Довольно, Тони. Разумеется, я все знаю о твоем папе — знаю куда больше, чем ты.
— А вот мне иногда так не кажется. Иногда мне кажется, что ты вообще ни о ком ничего не знаешь.
— Тони, ну в самом деле!
— Заткнись, Тони… — Это вмешалась Аврелия. — Какой смысл?
Аврелия всегда была такая. Сухая, сдержанная, слишком рассудочная и высокомерная для своих лет. У Аврелии, думала порой с огорчением Джоан, совсем нет сердца. Дочь терпеть не могла нежностей, а взывать к ее совести было и вовсе бесполезно.
— Родной мой папочка… — Это скулила Барбара, самая младшая из троих, самая ранимая и несдержанная. — Это ты во всем виновата, мама. Вечно ты злилась на него… злилась… вечно.
— Барбара! — Джоан едва не потеряла терпение. — Ты хоть понимаешь, что говоришь? Главный в этом доме — твой папа. Как, по-твоему, все вы смогли бы учиться, одеваться и кормиться, если бы отец не работал? Он принес себя в жертву ради вас — так приходится поступать всем родителям, — и они делают это совершенно бескорыстно.
— Разреши, мама, пользуясь возможностью, поблагодарить тебя за те жертвы, на которые ты пошла ради нас, — сказала Аврелия.
Джоан в недоумении смотрела на дочь. Аврелия казалась искренней. Ну конечно, девочка не может быть дерзкой до такой степени…
Тони отвлек ее. Он спросил серьезно:
— Правда ведь, что отец когда-то хотел стать фермером?
— Фермером? Нет, конечно нет. А, ну да, много лет назад была у него такая детская фантазия. Но в семье все мужчины были юристами. Фирма семейная и весьма знаменитая в этой части Англии. И ты должен гордиться и радоваться, что тоже будешь там работать.
— Но я не буду там работать, мама. Я хочу уехать в Западную Африку и заняться фермерством.
— Чепуха, Тони. Давай не будем возвращаться к этим глупостям. Конечно же ты будешь работать на фирме! Ты наш единственный сын.
— Я не собираюсь становиться юристом, мама. Папа об этом знает, и он обещал мне.
Джоан смотрела на сына потрясенная, ошарашенная его спокойной уверенностью.
Затем она опустилась в кресло, и к глазам ее подступили слезы. Все трое ужасно недобрые, все разом на нее напали.
— Не знаю, что на всех вас нашло… так со мной разговаривать… Если бы отец был здесь… по-моему, вы ведете себя неблагородно!
Тони, пробормотав что-то, повернулся и выскочил из комнаты.
Аврелия, как обычно, сухо пояснила:

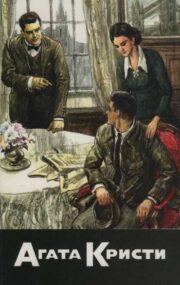
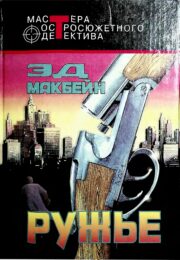
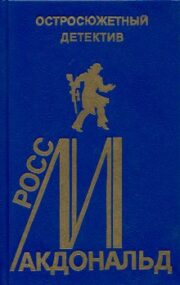
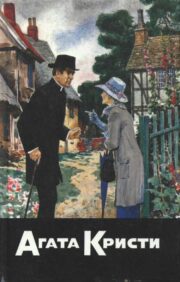
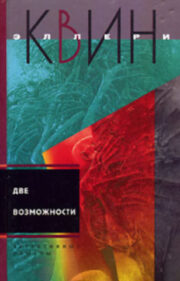
"Хлеб великанов. Неоконченный портрет. Вдали весной" отзывы
Отзывы читателей о книге "Хлеб великанов. Неоконченный портрет. Вдали весной", автор: Агата Кристи. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Хлеб великанов. Неоконченный портрет. Вдали весной" друзьям в соцсетях.