Джип тронулся, и они поехали по накатанной колее.
— Приятный сегодня вечер, свежий. — Гилсон не смел посмотреть на Лиз: сделав это, он мог бы не удержаться и ласково прикоснулся бы к ней, сказав, что ее злоключения с Роджером Линдсеем закончились и что на свете есть и другие хорошие люди. Но кто знает, как среагирует девушка…
— Люблю зиму, — сказала Лиз. — В ней есть какая-то чудесная сила. — Она улыбнулась. — А отец пишет! Когда лето, его все время отрывают от работы отдыхающие, которым хочется посмотреть на его картины, и он не может им отказать: а вдруг купят. Но обычно они не покупают.
— Ты знаешь, что сказал Илайхью про Вермонт? — Руф усмехнулся. Подражая Стоуну, он сымитировал гнусавый вермонтский выговор: — «Здесь только два времени года — август и зима!»
— Ну, уж не так у нас плохо! — засмеялась Лиз.
Руф был рад, что сумел развеселить девушку.
— Тот еще мужик, этот Илайхью, — сказал он. — Он освоил искусство жить. Никогда не делает ничего, что его не «удовольствует», как он выражается. Конечно, работать ему необходимо, но Илайхью умудряется превращать работу в своего рода игру.
— Я вообще не думаю, что человек может быть счастлив, если не получает удовольствия от своей работы, — сказала Лиз. Больше она не смеялась, и Руф предположил, что девушка думает о Роджере и о том, что его работа над романом сошла на нет за последние шесть месяцев.
— Вот что меня восхищает в Алонсо, — произнес он. — Ничто не способно удержать его от работы каждый день и каждый час до самой ночи. Он ревнует свое собственное время, как… как влюбленный мужчина.
— Мой отец не такой, как другие. Отец много лет был коммерческим художником. Теперь, когда он получил возможность писать, что хочет, у него появилось чувство, будто времени осталось мало.
— Впереди у Алонсо не меньше двадцати лет активной жизни.
— Насчет того, что это много, он бы с тобой поспорил. Отец говорит, что первые сорок лет его жизни ушли впустую, а последние десять он посвятил обучению. Теперь, когда большинство мужчин устали и думают уйти на пенсию, если удастся, он только начинает трудовой путь.
— Вот поэтому Алонсо доживет до ста лет. Когда устанешь, потеряешь к жизни интерес, вот тогда начинаешь увядать и умираешь. А у Алонсо-то в жилах не вода, и он будет жить вечно. — Руф взглянул на нее и широко улыбнулся. — Но скажи мне, Лиз, вот о чем. Зачем он носит такую громадную бороду?
— Отец сказал, что сорок лет смотрел на себя в зеркало и видел дешевого коммерческого художника, поэтому внешность надо было изменить, а то, дескать, сам того не замечая, по привычке принялся бы рисовать рекламу кукурузных хлопьев. Но настоящая причина, думаю, в том, что у него нет времени на бритье. Как только солнце встает, он начинает работать.
Руф остановил джип на обочине дороги. От двери коттеджа Холбруков к почтовому ящику была расчищена дорожка, но подъезд к коттеджу засыпан снегом. У Холбруков не имелось машины, так что подъезд они не расчищали.
— Помочь тебе с пакетами? — спросил Гилсон.
— Я сама, спасибо, Руф. Может, зайдешь, выпьешь что-нибудь?
— Благодарю, но надо возвращаться на ферму. Бим — славный парень, однако нужно проверить, как он сделал работу.
— Я думала, ты собирался к Ральфу Бенсону, — сказала Лиз улыбаясь.
— Леди, — произнес Руф, подражая выговору Илайхью, — если мне захочется солгать, чтобы себя удовольствовать, то это мое дело!
Дверь коттеджа отворилась, и появилась фигура грузного бородатого человека на фоне освещенного помещения позади него.
— Это ты, Лиз?
— Да, отец.
— Ну же, ради всего святого, заходи да сготовь мне поесть что-нибудь!
— Алонсо, я натравлю на тебя Общество по защите детей за жестокость к молодежи! — крикнул Руф.
— Убери отсюда своего проклятого механического коня, — проревел Алонсо, — или заходи да погрызи с нами сухарей с сыром! Только не стой там!
— Благодарю, поеду домой, меня там ждет тарелка супа из турнепса, — отозвался Руф.
— Ах вы, богатеи фермеры! Если я что-то ненавижу, так это бездействие. Делай что-нибудь! Уезжай или заходи!
— Как-нибудь потом, — сказал Гилсон. Он повернулся к девушке: — Спокойной ночи, Лиз.
— Спокойной ночи, Руф, и огромное спасибо, что подвез.
— Всегда к вашим услугам, леди. Пока.
Она стояла у обочины, глядя, как красные фары джипа исчезли за поворотом дороги. Потом Лиз развернулась к дому и медленно пошла по дорожке, неся свертки.
VI
Алонсо Холбрук принял кульки от дочери и отнес их в кухню. Он был человеком огромного роста — шесть футов и четыре дюйма, ширина же его тела вполне соответствовала росту. Седеющая борода и кустистые брови придавали некую свирепость облику художника, которую усиливали серые глаза — такие ясные и пронзительные, что казалось, можно ослепнуть, если смотреть прямо в них.
Коттедж, в котором жили Холбруки, явно строили, не учитывая габариты Алонсо. Чтобы проходить в двери, ему приходилось нагибаться, и он достаточно часто ушибал себе голову, чтобы проклясть и этот коттедж, и всю архитектуру Новой Англии в целом. Мебель в комнатах была самых разных стилей, большинство ее предметов — громоздки и далеко не в полном порядке. Алонсо то и дело обещал отремонтировать лопнувшую пружину на мягком стуле или склеить пристенный столик, но едва наступало утро, он забывал все обещания и несся в студию, оборудованную в северной части дома. В основной части жилища Лиз поддерживала подобие порядка, но студия являлась местом священным и неприкосновенным. Она была забита стопками холстов, пустыми тюбиками из-под красок, кистями, сломанными пастельными мелками, мастихинами, табакерками и десятками трубок, так сильно засорившимися, что ни в одну из них не набьешь и щепотки табака.
Страсть Алонсо к работе оставляла место в его жизни только для одного — почти столь же страстной любви к оставшейся без матери дочери. Свою любовь ему было выразить трудно. Когда он пытался проявить нежность действием, то что-нибудь обязательно ломал. Его огромные руки, способные наносить тончайшие, едва видимые линии на холст, вели себя крайне неуклюже во всех других случаях. А если Алонсо хотел продемонстрировать привязанность к дочери словами, то его речь в результате превращалась в злобные нападки на того, кто, по его мнению, мог принести Лиз несчастье.
— Пока тебя не было, эта дура, жена Саттера, звонила, — сказал Алонсо, подныривая под дверным косяком в гостиную, где Лиз снимала галоши. — Стало быть, Терренс Вейл домой возвращается. Ты это знаешь?
— Да, — буркнула Лиз, занятая металлической застежкой на обуви.
— Проклятые глупые бабы всегда реагируют одинаково, как по шаблону, — продолжал Алонсо. — Они собираются устроить вечеринку! — Слово «вечеринка» он произнес так, будто оно означало необычайно изощренную, дьявольскую пытку. — Они спросили, не поможешь ли ты им. Я сказал Эмили Саттер… Я сказал ей, что…
— Ах, отец! — воскликнула Лиз.
— Я сказал ей, что ты помогла бы соорудить самый большой праздничный костер на нашей площади, какие только бывают, но я сдохну, если позволю тебе участвовать в организации вечеринки, на которой она, Тина Робинсон и другие деревенские сороки будут сидеть и шептаться про тебя.
— Отец, — устало сказала Лиз, — разве ты не понимаешь, что я должна помочь? Может, лучше мне решать такие вопросы?
Алонсо потеребил бороду:
— У них что, отсутствуют всякие чувства? Они ничего не понимают? Они кто — люди или кто, черт побери?!
— Отец, я здесь живу. Я не могу от всех отдаляться из-за того, что меня обидели. Это лишь дало бы им возможность еще больше сплетничать. А от того, что ты говоришь им все, что думаешь, лучше не станет.
— Да никогда ни хрена никакой пользы не было мне от того, что я скрывал свои чувства! Это… это же видно. Просто по глазам моим видно!
Лиз рассмеялась неожиданно для себя:
— Отец, дорогой, сейчас ты абсолютно прав.
Алонсо попытался набить табаком одну из своих засорившихся трубок, но безуспешно.
— Жена Саттера не посмела спросить прямо, но в самом ее голосе слышался этот вопрос. Ей до смерти хочется узнать, каково твое отношение к последней новости. Ну, я рассказал ей про мое отношение. Я сказал, что мне до лампочки — приезжает Терренс домой или нет. Уже слишком поздно.
— Ах, отец!
— Вот такое вот мое отношение!
Алонсо прошел вслед за Лиз в кухню, где она принялась готовить ужин. Он уселся на краешек кухонного стола, из-за своих габаритов мешая дочери работать.
— Интересно, что теперь этот придурок Линдсей делать будет?
Лиз взялась за железную сковородку, чтобы пожарить свиные котлеты, которые она принесла из магазина.
— Я встретила Роджера в деревне, — сказала девушка как бы между прочим.
— Видать, у него хороший вкус, раз бросил тебя.
— Он спросил, можно ли ему прийти ко мне.
— Уверен, ты послала его к черту!
— Я сказала ему, чтобы приходил.
— Лиз! Лиз, ты с ума сошла? У тебя хоть какая-то гордость есть?
— Роджеру очень тяжело, отец. Все повернулось против него. Я… в общем, все произошло не по его воле, а я — его друг.
— Лиз, вот я что скажу. Если этот шмакодявка Роджер Линдсей заявится в мой дом, когда я здесь, я ему шею сломаю на фиг. И я не шучу.
— Ничего ты такого не сделаешь, отец, потому что я просила его прийти.
Алонсо сполз с краешка стола. Он схватил дочь за плечи своими большими руками и привлек ее лицо к себе:
— Лиз, ты любишь этого человека?
— Наверное, да, отец. Я не думаю, что на любовь может подействовать всего лишь нанесенная тебе обида.

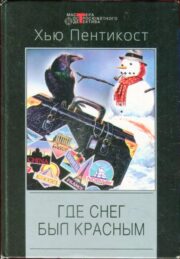
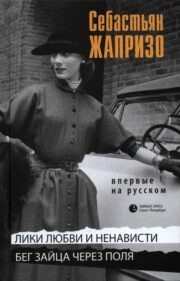



"Где снег был красным" отзывы
Отзывы читателей о книге "Где снег был красным", автор: Хью Пентикост. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Где снег был красным" друзьям в соцсетях.